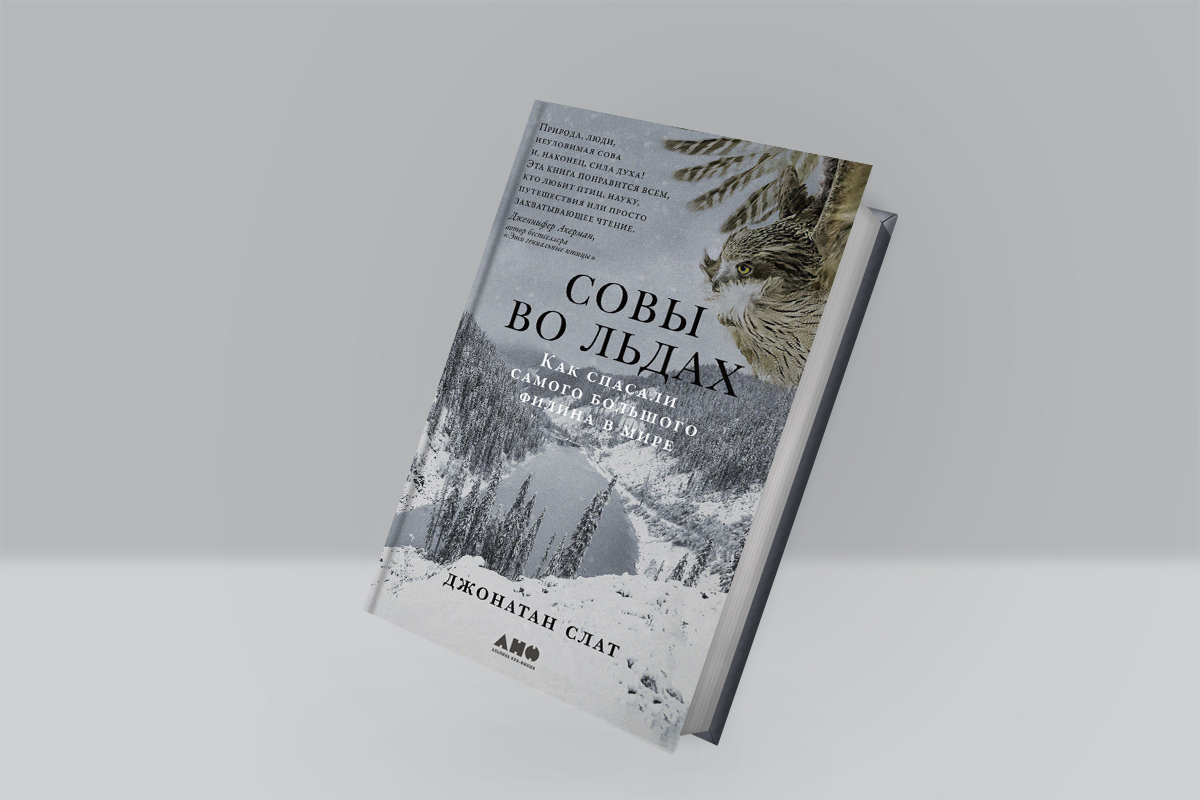Совы во льдах. Как американский орнитолог спасал рыбного филина на Дальнем Востоке
Вертолет задерживался. Я ждал его в прибрежном поселке Терней, в 300 километрах к северу от того места, где впервые увидел рыбного филина. Был март 2006 года, и я проклинал метель, из-за которой вертолет не мог подняться в воздух: мне не терпелось поскорее попасть в Агзу, населенный пункт в бассейне реки Самарги. Терней с его 3000 жителей был в этом краю самым северным анклавом цивилизации сколько-нибудь значимых размеров. Население чуть более отдаленных деревень вроде Агзу насчитывало несколько сотен, если не десятков, жителей.
В такой обстановке среди низеньких домов с печным отоплением я больше недели прождал своего рейса. За окнами единственной комнатки аэровокзала неподвижно стоял советский Ми-8, его серебристо-синий корпус подернулся инеем и потускнел, а вокруг бушевали снежные вихри. В Тернее я привык к ожиданиям: мне пока еще не доводилось летать на этом вертолете, а автобусы до Владивостока, который находился в 15 часах пути к югу от поселка, ходили только два раза в неделю, часто опаздывали и ломались. К тому времени я уже более десяти лет регулярно приезжал и подолгу жил в Приморье; ожидание было неотъемлемой частью жизни.
Спустя неделю пилотам наконец дали разрешение на вылет. Провожая меня в путь, Дейл Микелл, специалист по амурским тиграм, живший тогда в Тернее, вручил мне 500 долларов в конверте. Ссуда, пояснил он, на тот случай, если придется выпутываться из неприятностей. Он бывал в Агзу, а я нет: он знал, что меня там ждет. Я приехал на окраину поселка, к взлетно-посадочной полосе — расчищенному от вековых деревьев участку на берегу Серебрянки. Здесь, всего в нескольких километрах от места впадения в Японское море, река течет по широкой долине, обрамленной с обеих сторон низкими горами Сихотэ-Алиня.
Взяв в кассе билет, я смешался с беспокойной толпой старушек, детей, охотников — местных и городских. Закутавшись в толстые драповые пальто и не выпуская из рук чемоданов, они стояли снаружи и ждали приглашения на посадку. Такие продолжительные метели случались здесь нечасто, но теперь все мы стали заложниками непогоды.
В толпе было человек двадцать, а вертолет мог принять на борт не более 24 пассажиров без багажа. Мы с тревогой смотрели, как рабочий в синей спецовке то и дело носит коробки с продовольствием к вертолету, а второй — в таком же синем комбинезоне — грузит их на борт. У каждого из нас зародилось подозрение, что вертолет не сможет вместить всех, кому продали билеты, — загруженные в него ящики и мешки занимали ценное пространство, — но при этом каждый намеревался непременно протиснуться в крохотный проем металлической дверки. Там, в Агзу, команда Сурмача уже ждала меня восемь дней, и если я не попаду на этот рейс, то они, скорее всего, продолжат путь без меня. Я пристроился за дородной пожилой женщиной: по опыту я знал, что лучший способ обеспечить себе место в автобусе — следовать за таким человеком по пятам, ведь это все равно что ехать за машиной скорой помощи в пробке. И я подумал, что здесь это тоже сработает.
Приглашение на посадку дали едва слышно, и мы стеной ринулись в атаку. Прорвавшись к вертолетной лестнице, я влез по ней в салон и стал лавировать между ящиками с картофелем, водкой и другими атрибутами русской деревенской жизни. Моя «неотложка» уверенно двигалась вперед, и я проследовал за ней в конец салона, где меня ждал иллюминатор и немного свободного пространства для ног. Постепенно количество пассажиров на борту превысило требования безопасности, и, хотя вид из окна по-прежнему был в моем распоряжении, пространством для ног мне пришлось поступиться из-за огромного мешка, вероятно с мукой, навалившегося на мои ступни. Наконец, на радость экипажу, отнюдь не бесконечное пространство салона заполнилось, и винты закрутились, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, завораживая пассажиров своим неистовым вращением. Ми-8 дрогнул, оторвался от земли, с ревом пронесся низко над Тернеем, заложил вираж влево и заскользил над Японским морем, отбрасывая тень на северо-восточную оконечность Евразии.
Под нами тянулось побережье, неловко втиснувшееся узкой полосой гальки между горами Сихотэ-Алиня и Японским морем. В этом месте горный хребет резко обрывался, и заросшие долговязым монгольским дубом склоны неожиданно сменялись отвесными скалами — некоторые из них высотой с 30-этажный небоскреб. Их монотонный серый цвет изредка нарушали коричневые вкрапления земли и цепляющаяся за камни растительность либо белые подтеки, выдающие присутствие гнезда хищной птицы или вóрона. Голые дубы на верхушках скал были старше, чем казалось. Из-за суровых условий, в которых они жили — ветров, холодов и туманов, окутывающих берег на протяжении большей части вегетационного периода, — они оставались низкорослыми и тонкими. Далеко внизу зимний прибой украсил густым, льдистым глянцем каждый камень, до которого мог добраться морской туман.
Примерно через три часа после вылета из Тернея Ми-8 приземлился, мерцая на солнце сквозь вихри потревоженного снега, и я увидел нестройные ряды снегоходов, сгрудившихся вокруг аэродрома — расчищенной от леса площадки с избушкой. Пока пассажиры высаживались, экипаж занимался разгрузкой, освобождая место для обратного рейса.
Ко мне с деловым видом подошел удэгейский паренек лет четырнадцати в кроличьей ушанке, из-под которой кое-где торчали черные вихры. Он сразу признал во мне чужака. Бородатый молодой человек 28 лет, я никак не походил на местных: мои русские сверстники, как правило, ходили чисто выбритыми, да и пухлая красная куртка выделялась на фоне приглушенных оттенков серого и черного, принятых среди русских мужчин. Паренек поинтересовался, что привело меня в Агзу.
— Ты когда-нибудь слышал о рыбных филинах? — спросил я по-русски; в экспедиции, да и на протяжении всего исследовательского проекта мне предстояло разговаривать исключительно на этом языке.
— Рыбные филины. Типа птицы? — ответил он.
— Вот их-то я и приехал искать.
— Так вы птиц ищете... — протянул паренек c ноткой озадаченности в голосе, будто гадая, правильно ли он меня понял.
Потом спросил, есть ли у меня знакомые в Агзу. А услышав, что нет, удивленно округлил глаза и поинтересовался, встретят ли меня. Я сказал, что надеюсь на это. Он нахмурил брови, нацарапал свое имя на обрывке газеты и вручил его мне, пристально глядя в глаза.
— Агзу не то место, куда можно приехать просто так, — сказал он. — Если вам негде будет переночевать или понадобится помощь, спросите в поселке, как меня найти.
Как и те дубы на побережье, этот паренек рос в суровых условиях, и за его юной внешностью скрывался опыт. Я почти ничего не знал про Агзу, но слышал, что временами здесь бывает опасно: прошлой зимой в поселке избили приезжего метеоролога, русского (но все равно чужака), сына моего знакомого из Тернея, его оставили в снегу без сознания, и он замерз насмерть. По официальной версии, убийцу так и не нашли: в таком крошечном поселке, как Агзу, где все друг друга знают, имя убийцы наверняка было известно каждому, но никто не сказал следователям ни слова. Так или иначе, наказание было их делом.
Скоро я различил в толпе Сергея Авдеюка, руководителя нашей полевой команды. Он приехал встречать меня на снегоходе. Мы сразу же узнали друг друга по броскому цвету теплых пуховиков, но никому и в голову не пришло бы принять Сергея за иностранца — уж точно не с его короткой стрижкой, полным ртом золотых зубов, извечной сигаретой и уверенной манерой человека, чувствующего себя в своей стихии. Он был моего роста — 1,8 метра или около того, — широкое смуглое лицо с легкой порослью щетины украшали солнечные очки, которые служили защитой от ослепительных бликов на снегу. И хотя план самаргинской экспедиции как первого этапа нашего проекта разрабатывали мы с Сурмачом, руководил ею, вне всякого сомнения, Авдеюк. Он имел большой опыт работы с рыбными филинами и хорошо знал тайгу, поэтому я прислушивался к его мнению на протяжении всей поездки. Авдеюк и еще два члена команды добрались до бассейна реки Самарги несколькими неделями ранее на лесовозе из портового поселка Пластун, расположенного в 350 километрах к югу. Они привезли с собой два снегохода, самодельные сани, доверху груженные всем необходимым, и запасы бензина в бочках. С побережья они двинулись прямиком в верховье реки, преодолев добрую сотню километров и оставив по пути тайники с топливом и провиантом, после чего повернули назад и стали методично прокладывать обратный путь к побережью. Они сделали остановку в Агзу, чтобы встретить меня, рассчитывая задержаться здесь всего на пару дней, но им, как и мне, пришлось ждать, пока не утихнет пурга.
Агзу не только самое северное, но и самое изолированное поселение Приморья. Деревенька с населением в 150 человек, большинство из которых удэгейцы, стоит на берегу одного из притоков Самарги и порядком отстала от жизни. В советское время она слыла центром охотничьего промысла: в ней жили профессиональные охотники, получавшие зарплату от государства. Вертолеты привозили с собой деньги, а увозили меха и мясо. После того как в 1991 году Советский Союз распался, не заставила себя долго ждать и организованная индустрия заготовки мяса и дичи. Вертолеты прилетать перестали, а стремительная инфляция, последовавшая за падением советского режима, оставила охотников с охапками обесценившихся советских рублей. Желающие уехать просто не могли этого сделать: им не хватало средств. Не имея выбора, они вернулись к натуральному хозяйству. В какой-то момент торговля в Агзу перешла на бартерную систему: в поселковом магазине свежее мясо обменивали на привезенные из Тернея товары.
Еще относительно недавно самаргинские удэгейцы селились рассредоточенными стойбищами на всем протяжении реки, но в 1930-е годы, в период советской коллективизации, их становища разрушили, а народ согнали в четыре деревни, самой крупной из которых стала Агзу. Отчаяние и беспомощность людей, вынужденных против своей воли участвовать в коллективизации, отразились в названии их селения: Агзу, вероятно, образовано от удэгейского огзо, что значит «ад».