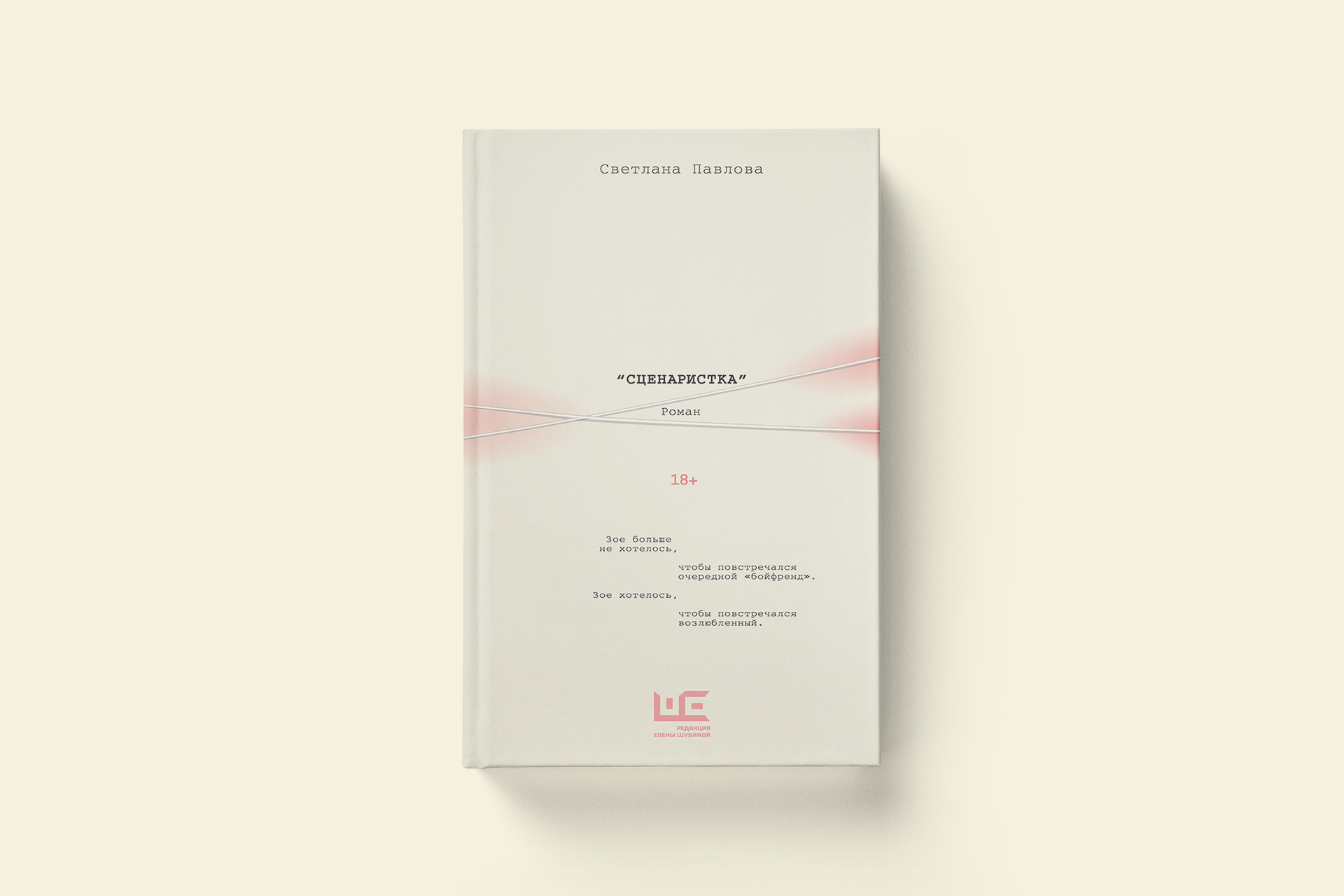Светлана Павлова «Сценаристка». Просто чернозём
Одним вечером Зоя пришла в платье с открытой спиной — показала характер.
В семье Яна любили зеркала — напольные, в тяжёлых рамах. Минимум по одному в каждой комнате.
Зое захотелось сделать селфи в новом наряде, но Роза Брониславовна предложила сфотографироваться на балконе.
— Давайте, чтобы башни было видно. Великий дом всё-таки. Вы знаете, тут жили Уланова, Паустовский, Раневская, Твардовский…
К тому моменту Зою так достала её патетика, что она не удержалась и ответила:
— Да-да, энкавэдэшникам квартиры раздавали ещё…
— Darling, вы что хотите сказать? Мне кажется, вы опять обчитались своего интернета.
И она ушла.
Зачем оставаться?
Неудобная тема, неудобный разговор.
На том же вечере подруга Розы Брониславовны спросила Зою:
— Роза говорила, что вы снимаете кино. А где вы учились?
— Не снимаю, а пишу. Училась в «Индустрии».
— Это что-то новомодное?
Зоя решила оправдаться и ответила, что кроме «Индустрии» училась сценаристике и в «настоящем» вузе, просто опустив тот факт, что отчислилась на втором курсе. Собеседница оживилась и уточнила: «У Арабова?», но, увидев, как Зоя отрицательно качает головой, потеряла к ней интерес. После она решила проявить благосклонность, сказав, что учиться в этом вузе сегодня — в любом случае бессмысленная затея, ведь там больше не преподаёт Мераб Мамардашвили.
Она заблуждалась. Проблема места заключалась не в этом, а в том, что молодое поколение там обучали люди, напрочь оторванные от реальности. Не знающие, что такое сторителинг, скрин-лайф, референс и слэшер.
Да ладно, слэшер.
Они не любили молодость. И от зависти или от страха выбирали её презирать.
«Какой главный совет вы можете дать начинающему сценаристу?», — спросил на одном из первых семинаров Зоин одногруппник Дамир. «Не быть сценаристом», — ответил мастер и засмеялся сам себе.
В их институте преподаватели-мастодонты говорили им: «Представьте, что вам сейчас точно скажут, что по вашему сценарию никогда ничего не снимут. Вы продолжите писать? Если ваш ответ “да” — поздравляем, вы настоящий сценарист».
Зоя не могла понять этой логики. А зачем ей писать кино, если его никто никогда не увидит?
Среди преподавателей Зое нравилась лишь одна дама. Она вела историю мирового кино и производила впечатление человека, у которого установлена связь с Высшими Силами, словно у неё было тайное знание. Как-то раз Зоя попросила у неё контакт одного режиссёра — коммерчески успешного, известного, признанного, ужасно всех раздражавшего. В тот момент Зоя защищала сценарий про девушку, пережившую неудачную пластику, и хотела, чтобы этот режиссёр был её рецензентом.
— Я могу, конечно. Мы дружим на фейсбуке, но зачем вам именно он? — спросила она.
Зоя ответила честно: что однажды встретила его в ресторане в окружении трёх блондинок модельной внешности и подумала, что ему нужно прочитать её сценарий о стандартах красоты. Чтобы суметь рассмотреть других женщин. Преподавательница рассмеялась, погладила её по спине, устало сняла очки-«кошки», которые так нравились Зое, и спросила:
— Милая, вы знаете, сколько ему лет?
— Эээ… ну, сорок?
— Вот именно. И вы всерьёз хотите его перевоспитать своим фильмом?
Наивна Зоя была лишь отчасти. Она пришла в сценаристику, завершив свой вполне успешный и давший ей заработать неплохую финансовую подушку карьерный трек в банке (маркетинг, стратегии, скукота). По факту — первокурсница, но всё-таки не ребёнок.
Местных дедов раздражал тот факт, что она перед ними не пресмыкалась и не робела. Их бесила дерзость и, пусть напускная, но уверенность в себе. Зоя приходила на защиты курсовых в узких чёрных джинсах, красной помаде и никогда не говорила «Я волнуюсь».
Её осаждали, кривили лица: «Пока вы не поймёте, как это делал Шлёндорф или Занусси, нам не о чем говорить».
Они твердили: нынешнее поколение разбаловано интернетом. В наше время успех не случался так легко. Мы проходили испытание временем. Обивали пороги кабинетов. Довольствовались малым. Получали это малое кровью и потом. Страдали. Через тернии к звёздам. Делу время — потехе час. Ни дня без строчки.
Зоя слушала заштампованную речь и думала: какая же это душевная жадность — вцепиться вставными зубами в подножку уходящего поезда, и держаться, во что бы то ни стало держаться, отпихивая молодых. Как это страшно — прийти в зрелость таким: не познавшим признания и совсем не умеющим отдавать.
Они требовали уважения. Но уважать непросто, когда тебе пеняют на неумение писать пером, отсутствие мастерства спортивного ориентирования в лесу и другие утраченные навыки, естественные для времени их старшей школы.
Осознаёте ли вы, что вы посмотрели больше фильмов, чем я, просто потому что вы старше меня? Вы понимаете, что ваша жизнь чисто математически насчитывает
большее количество минут, чем моя, а значит, у вас было больше времени на Шлёндорфа и Занусси? Зачем вы поджимаете губы, когда на вопрос «Ваш самый любимый фильм?», я отвечаю: «Трудности перевода», а не «Броненосец “Потёмкин”»? Неужели на этот вопрос в принципе существует правильный ответ? А вы в молодости хотели перетруждаться и страдать? И почему же, если вы такие умные, мои ровесники выросли бестолочами? Какое влияние вы на нас оказали? И если ваш совет звучит как «не быть сценаристом», зачем вы в таком случае нам тут преподаёте?
Она не спрашивала.
Однажды Зое приснился ядерный взрыв. Она наблюдала взрыв из окна своей квартиры, он разрастался словно в слоумо: то есть её время дома текло привычно, а за окном — замедленно. В этот момент Зоя звонила Сене, чтобы спросить: «Ты видишь? А сейчас? А вот сейчас?» Они плакали и говорили друг другу прощальные слова любви.
Зоя не видела более прекрасного сна. И более ужасного вместе с тем. И ей захотелось сделать об этом пятиминутную короткометражку. Мастерам не понравилась эта идея. Они говорили: «Ничего не понятно. Вы что этим сном хотите сказать?»
«Я хочу сказать, что мне страшно. И что любовь сильнее смерти», — отвечала Зоя.
Наверное, им было надо, чтобы Зоя сделала как Пахмутова в песне «Пока не поздно»:
Солнечному миру —
Да! Да! Да!
Ядерному взрыву —
Нет! Нет! Нет!
Но Зоя не хотела как Пахмутова. Зоя хотела как Пугачёва:
Расскажите, птицы, времечко пришло,
Что планета наша — хрупкое стекло
Чистые берёзы, реки и поля,
Сверху всё это нежнее хрусталя.
Или как в восьмой серии третьего сезона «Твин Пикса»…
Получается, что всего год назад Зоя пыталась снискать уважение у дедов на учёбе — чтобы получить диплом. Теперь — у дедов из квартиры бабушки Яна, чтобы они приняли её в свою стаю.
Подруга Розы Брониславовны разозлила Зою, появился задор и настроение на провокацию. К тому же — вырез на спине. Зоя налила себе водки из штофа в лафитник (тут не пили из другой посуды), для смелости и блеска глаз. Ухнула её и громко обрати-
лась через стол к Розе Брониславовне:
— Почему, по вашему мнению, большинство дирижёров — мужчины?
Роза Брониславовна красиво изогнула правую бровь и в своей любимой насмешливой манере ответила:
— Ну что за глупый вопрос. Потому что женщинам не комильфо быть диктаторами, darling. — Она подумала немного и продолжила: — Ой, сейчас много дури всякой говорят про дирижёрское ремесло. Мол, автократию сменила дипломатия, взаимоуважение.
Ересь! Вздор! Это же тотальное непонимание профессии. Слышали, может, такой анекдот: «Знаете, в чём отличие бога от дирижёра? Бог никогда не скажет, что он дирижёр».
Стол рассмеялся.
— А вам хоть что-то из современного мира нравится?
— А что в нём может нравиться?
— Ну, культура там.
— Darling, вы всерьёз называете ЭТО культурой?
— Пелевин? Сорокин?
— Зачем я буду их читать, если есть Достоевский.
— А кино?
— Жвачка.
— Но Сокуров-то?
— Исключение, подтверждающее правило.
— А Вуди Аллен?
Они сидели на разных концах длинного стола, укрытого белой скатертью. Перебрасывались репликами через солёные помидоры и нарезку оленины. Это было так кинематографично. Все даже замолчали.
— Ничего лучше «Манхэттена» не было и не будет.
— А интервью? Вы смотрите интервью?
— Долецкая и Познер. Максимум. Всё.
— А Монеточка?
— Я вас умоляю.
— Но она меняет мир.
— Да сдалось вам, душенька, менять мир.
— Мир не справляется сам. И классическая постановка двадцатого века ему не помогает.
Подобные разговоры, если честно, занимали Зою. Они были чудовищными, иногда — небезынтересными. Особенно Зоину душу задевали две мысли. Первая — о том, что литература, кино, живопись, музыка (подставьте сюда любое другое искусство) умирает, потому что стало доступно слишком многим. Вторая — о том, что молодёжь тупеет на глазах.
Здесь много говорили о нынешних 20- и 30-летних, ругая их за деградацию, неумение читать, отсутствие интереса к жизни, желание праздно шататься и не перетруждать себя. На лицо износ интеллекта. Исключение делалось для молодняка «из своих». Не беспочвенно: местная молодёжь и вправду была талантлива, любопытна. Даже пассионарна. Они особенно удивляли Зою умением говорить тосты — трогательные, сентиментальные, иногда несколько пафосные. В Зоиных кругах так было не принято: обстебут за патетику.
Сеня была в восторге от описаний, как она говорила, «номенклатурных кутежей». Требовала: «Стукни меня, пожалуйста, если я в семьдесят совсем сойду с ума и буду выносить вердикты целым поколениям, окей?» Уточняла: «Умоляю, скажи, а там кто-нибудь говорит фразу “глубинный народ”?» Иногда угрожала: «Не смей попадать под их очарование и с чем-нибудь соглашаться!»
Последнее было непросто. Зоя и сама давненько думала о том, что демократизация культуры — это, конечно, хорошо, однако идея объяснять искусство через рилсы и добавлять «простыми словами» в каждом гугл-запросе немного унижает человеческое
достоинство. Но в разговорах этих ни разу не выразила согласие, из принципа. Во-первых, местный пессимизм в отношении настоящего и будущего казался слишком злобным и, самое главное, — беспомощным. Во-вторых, Зоя такой человек, ей только дай поспорить. Оказавшись среди борцов за новую этику, она начинала немедленно ставить под сомнение чрезмерно бережную коммуникацию, абсолютизацию морали, игнорирование контекстов. А общаясь с бумерами, живущими на старый манер, не ленилась объяснять, почему идея «зачем мне новая этика, если старая вполне ничего» не работает.
Однажды Зоя услышала, как Роза Брониславовна сказала кому-то из подруг: «Да ты чего, не видишь, что ли, она совсем тёмненькая. Это же просто чернозём». А потом — и Зоя сначала не поверила ушам — перешла с этой подругой на идеальный французский.
Зое, как ни странно, захотелось смеяться.
Всё детство мечтала жить в кино, но знала бы, что получится «Москва слезам не верит».