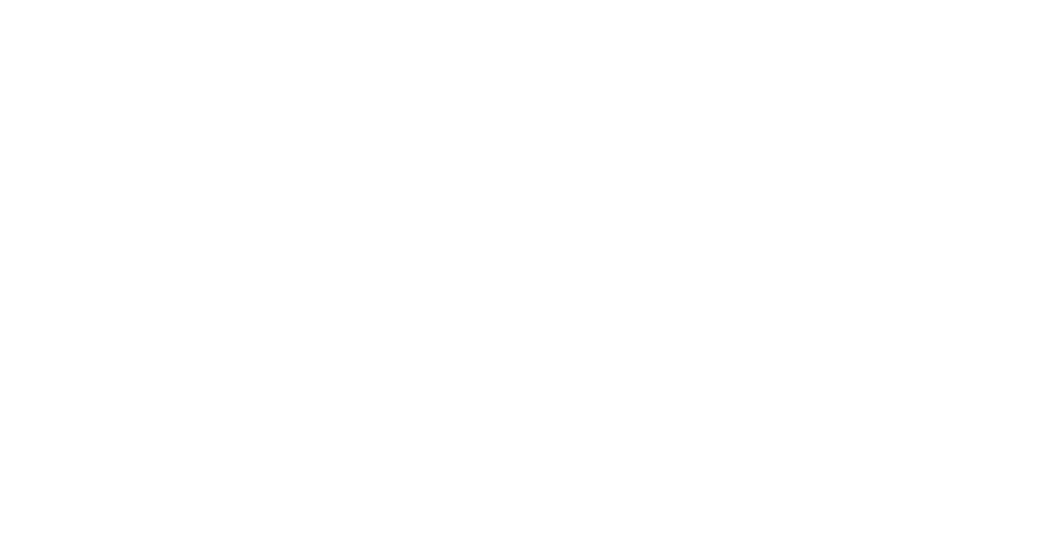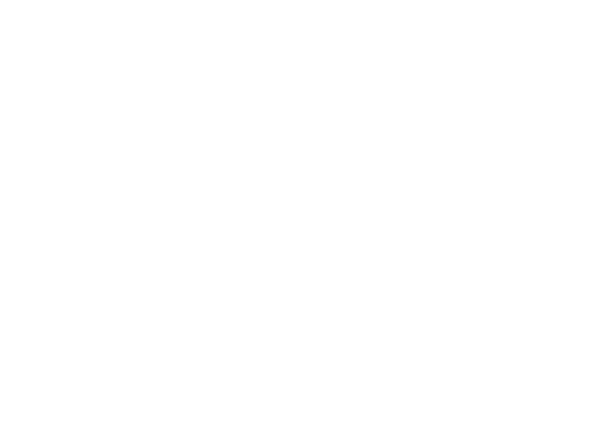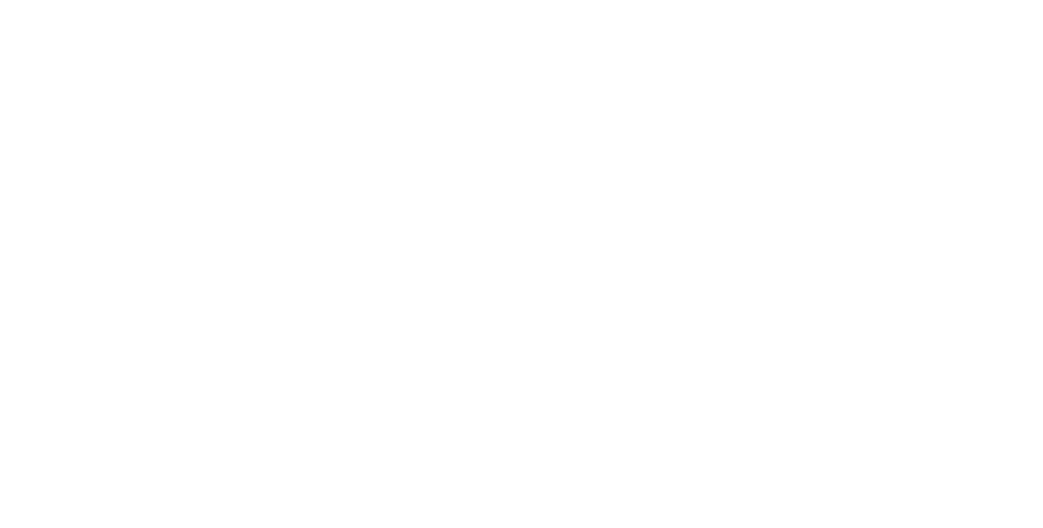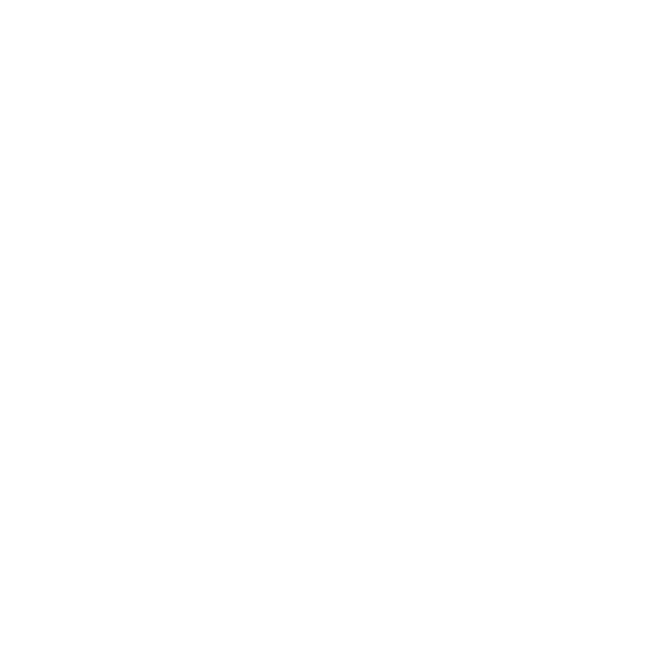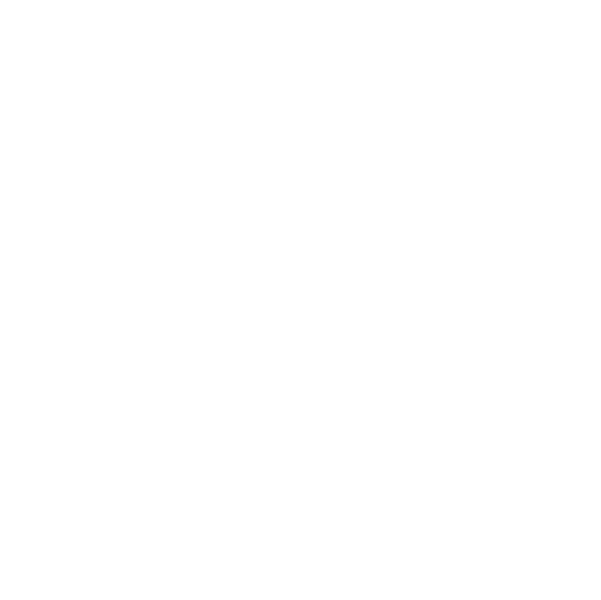Станислав Белковский
Брейгель
Брейгель
Святочный рассказ
Все события вымышлены, все совпадения случайны.
Все события вымышлены, все совпадения случайны.
суки
обманул
обманувшие
страшилищ
лицо
ерунда
потратил
секс
чертов
не сданной
обманут
безразличие
уехать
украл
обмана
украсть
растрезвонишь
Фигачиково
потеряй
обманули
украли
потерял
выносят
сильный в половом отношении
*междометие
идиоты
Гадкие твари
потратил
секса
совокуплялся
обмануть
сильного в половом отношении
сношал
лица
рожа
глупость
пофигу
Станислав Белковский
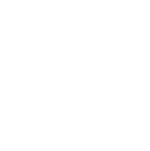
Должно быть, всякий человек стремится хоть в раз жизни по-настоящему выпендриться. Выделиться. Показать себя с какой-то особенной, никем не ожидаемой стороны. Говорят, что есть люди, которые ничего подобного вовсе не хотят, но я таких не видывал. Не замечал, может быть.
И я, Белковский, не исключение.
Если бы я никогда не попал на выставку Брейгеля в Вене (2 октября 2018 — 13 января 2019 года), я стал бы особенным. Как футбольный тренер Жозе Моуринью. Он сам себя называет special one, что, кажется, при определенных обстоятельствах означает «особенный». За что его и уволили недавно из ФК «Манчестер Юнайтед». Или как покойный в эти дни Майкл Джексон из ролика «Триллер» — ну, там, где у него прорастают клыки и волосяной покров на всем еще черном лице.
И я, Белковский, не исключение.
Если бы я никогда не попал на выставку Брейгеля в Вене (2 октября 2018 — 13 января 2019 года), я стал бы особенным. Как футбольный тренер Жозе Моуринью. Он сам себя называет special one, что, кажется, при определенных обстоятельствах означает «особенный». За что его и уволили недавно из ФК «Манчестер Юнайтед». Или как покойный в эти дни Майкл Джексон из ролика «Триллер» — ну, там, где у него прорастают клыки и волосяной покров на всем еще черном лице.
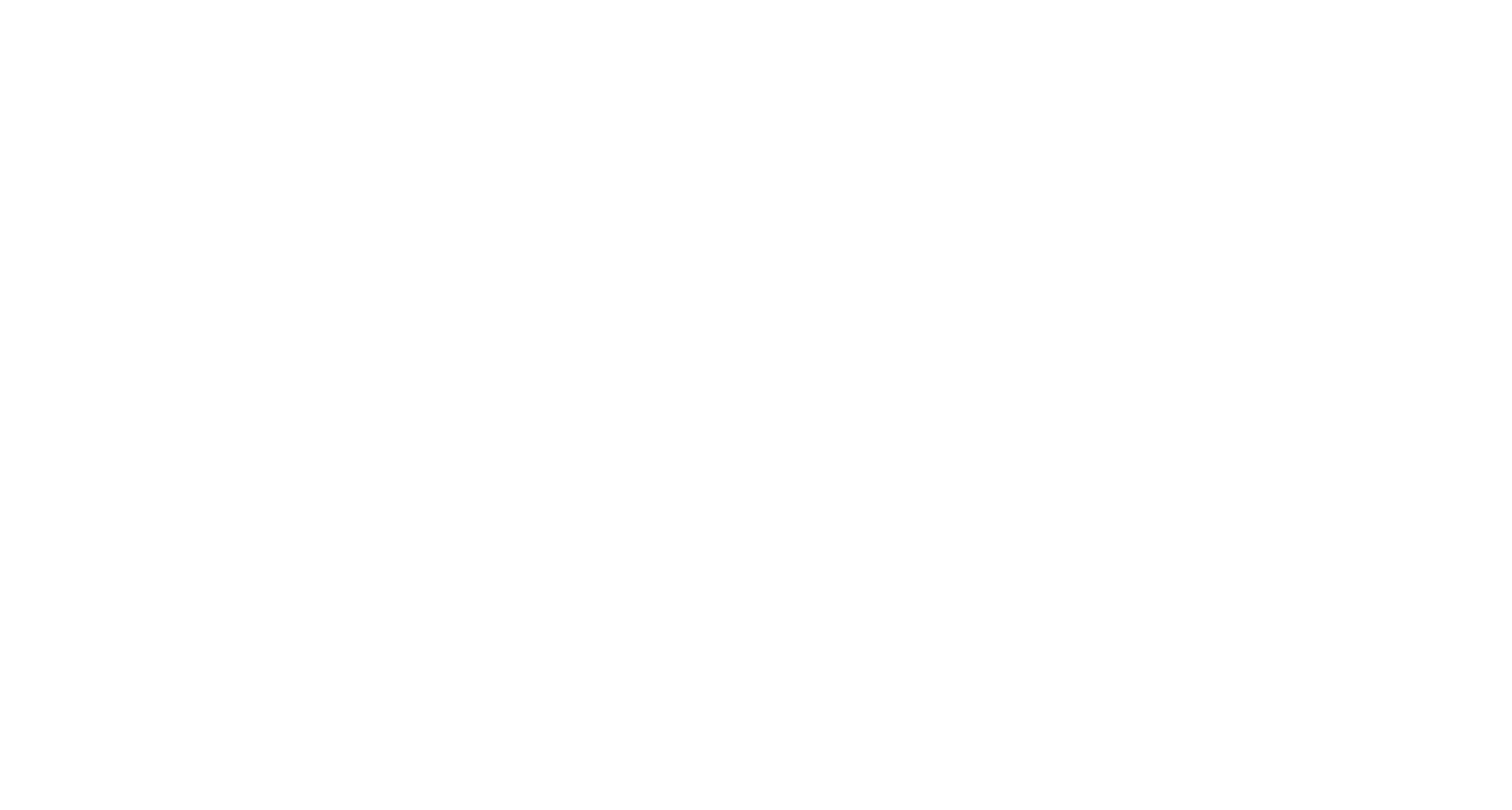
Потому что все граждане РФ в здравом уме и твердой памяти, не признанные судом недееспособными, побывали на этой выставке. В Вене. Кунстхисторишес Музеуме. На площади Марии Терезии. Где этого Брейгеля и так всегда было полно. Но сейчас понаехали еще картины из других разных музеев и стало совсем с избытком.
А я — не побывал. Ибо не могу. Не могу вообще.
По двум фундаментальным причинам. У первой есть две версии:
1. В непредставимом январе 2004 года, получив свой последний в жизни серьезный гонорар за выборы мэра города Сергиев Посад, я отправился в Вену. Изрядно выпив какой-то чухни, типа ликера «Обстлер», зашел в Музеум. Доплелся через всех Караваджо и Арчимбольдо до Брейгеля. И, не сдержав эмоций, заблевал его картину «Самоубийство Саула». С тех пор мне пожизненно запретили заходить в этот сраный Музеум. Даже бумажку выдали. С синей треугольной печатью, как в поликлинике. Впрочем, по пьяни печать показалась мне вишнево-серой, но это не важно. Я бумажку, конечно, давно потерял, но в Музеуме-то она осталась. И в базе данных у них стоит красный флажок. Так что нечего и ехать, смысла нет, все равно не пустят.
2. В невообразимом январе 2004 года, получив свой последний в жизни серьезный гонорар за выборы мэра города Сергиев Посад, я отправился в Вену. Изрядно выпив какой-то чухни, типа ликера «Обстлер», я таки зашел в Кунстхисторишес Музеум. Не плелся сквозь Караваджо/Арчимбольдо и не досягал далекого Брейгеля. А просто, не сдержав эмоций, схватил за жопу смотрительницу, премилую тощую блондинку лет сорока. С тех пор мне пожизненно запретили заходить в этот сраный Музеум. Даже бумажку выдали. С синей треугольной печатью, как в поликлинике. Впрочем, по пьяни печать показалась мне вишнево-серой, но это не важно. Я бумажку, конечно, давно потерял, но в Музеуме-то она осталась. И в базе данных у них стоит красный флажок. Так что нечего и ехать, смысла нет, все равно не пустят.
А я — не побывал. Ибо не могу. Не могу вообще.
По двум фундаментальным причинам. У первой есть две версии:
1. В непредставимом январе 2004 года, получив свой последний в жизни серьезный гонорар за выборы мэра города Сергиев Посад, я отправился в Вену. Изрядно выпив какой-то чухни, типа ликера «Обстлер», зашел в Музеум. Доплелся через всех Караваджо и Арчимбольдо до Брейгеля. И, не сдержав эмоций, заблевал его картину «Самоубийство Саула». С тех пор мне пожизненно запретили заходить в этот сраный Музеум. Даже бумажку выдали. С синей треугольной печатью, как в поликлинике. Впрочем, по пьяни печать показалась мне вишнево-серой, но это не важно. Я бумажку, конечно, давно потерял, но в Музеуме-то она осталась. И в базе данных у них стоит красный флажок. Так что нечего и ехать, смысла нет, все равно не пустят.
2. В невообразимом январе 2004 года, получив свой последний в жизни серьезный гонорар за выборы мэра города Сергиев Посад, я отправился в Вену. Изрядно выпив какой-то чухни, типа ликера «Обстлер», я таки зашел в Кунстхисторишес Музеум. Не плелся сквозь Караваджо/Арчимбольдо и не досягал далекого Брейгеля. А просто, не сдержав эмоций, схватил за жопу смотрительницу, премилую тощую блондинку лет сорока. С тех пор мне пожизненно запретили заходить в этот сраный Музеум. Даже бумажку выдали. С синей треугольной печатью, как в поликлинике. Впрочем, по пьяни печать показалась мне вишнево-серой, но это не важно. Я бумажку, конечно, давно потерял, но в Музеуме-то она осталась. И в базе данных у них стоит красный флажок. Так что нечего и ехать, смысла нет, все равно не пустят.
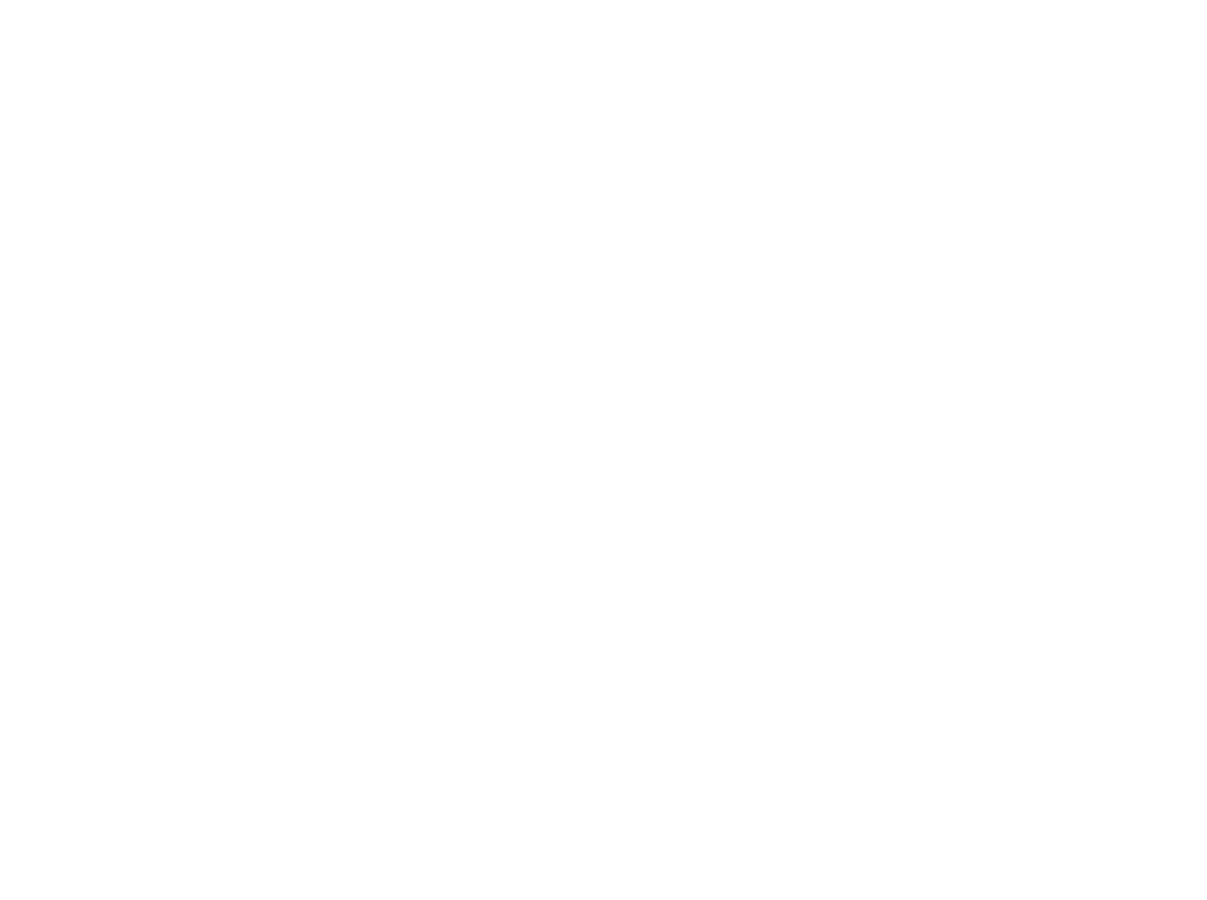
Наверное, вы ни за что не поверите версии №2. Она действительно выглядит совершенно неправдоподобно. Потому остановимся на версии №1. С ней еще как-то можно работать.
И все равно я хочу попасть на выставку Брейгеля. Поскольку, если тебе открыт доступ, то нет ничего особенного в том, чтобы туда зайти. Ты не special one. А вот если закрыт, а ты проникаешь внутрь — есть что-то особенное. Ты special one. И человечество нет-нет да и погордится тобой. Хотя бы те пятнадцать минут, которые положены нам всем согласно Конституции социального государства.
Как же это все провернуть, изумитесь вы. То-то же!
И все равно я хочу попасть на выставку Брейгеля. Поскольку, если тебе открыт доступ, то нет ничего особенного в том, чтобы туда зайти. Ты не special one. А вот если закрыт, а ты проникаешь внутрь — есть что-то особенное. Ты special one. И человечество нет-нет да и погордится тобой. Хотя бы те пятнадцать минут, которые положены нам всем согласно Конституции социального государства.
Как же это все провернуть, изумитесь вы. То-то же!
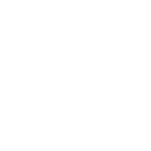
Но есть другая, она же вторая фундаментальная причина, по которой я не могу добраться до Брейгеля. Она же и первоглавная причина, как полагает добрая часть человечества.
У меня нет денег.
Я вот знаю, что такое инфляция. Какие-то министры финансов и экономики втирают нам про инфляцию. Но они-то ни хера про это не знают. Тут недавно, кажется, бывшего министра то ли экономики, то ли финансов посадили на восемь лет. За то, что он вместо работы писал стихи. Ну и правильно. Если не проникся темой инфляции, что остается, как писать стихи. Меня удивило только, что фамилия у него начиналась на букву Ы. Хотя он был татарин, а не чукча. Впрочем, он татарин по-прежнему, и фамилия начинается точно так же. Ведь на зоне он продолжает жить своей скудомерной жизнью. По-прежнему кропая стихи мокрым хлебом на белой стене. Хоть про него и забыли все, кто носил взятки в товарных количествах. Память сильнее времени, но слабее все же тюрьмы.
А я бы, в приступе напряжения, всех тех министров посадил. Настоящих, прошлых и будущих. За то, что *** нам мозги по части инфляции.
А мне ли в ней не разбираться?
Судите сами.
У меня нет денег.
Я вот знаю, что такое инфляция. Какие-то министры финансов и экономики втирают нам про инфляцию. Но они-то ни хера про это не знают. Тут недавно, кажется, бывшего министра то ли экономики, то ли финансов посадили на восемь лет. За то, что он вместо работы писал стихи. Ну и правильно. Если не проникся темой инфляции, что остается, как писать стихи. Меня удивило только, что фамилия у него начиналась на букву Ы. Хотя он был татарин, а не чукча. Впрочем, он татарин по-прежнему, и фамилия начинается точно так же. Ведь на зоне он продолжает жить своей скудомерной жизнью. По-прежнему кропая стихи мокрым хлебом на белой стене. Хоть про него и забыли все, кто носил взятки в товарных количествах. Память сильнее времени, но слабее все же тюрьмы.
А я бы, в приступе напряжения, всех тех министров посадил. Настоящих, прошлых и будущих. За то, что *** нам мозги по части инфляции.
А мне ли в ней не разбираться?
Судите сами.
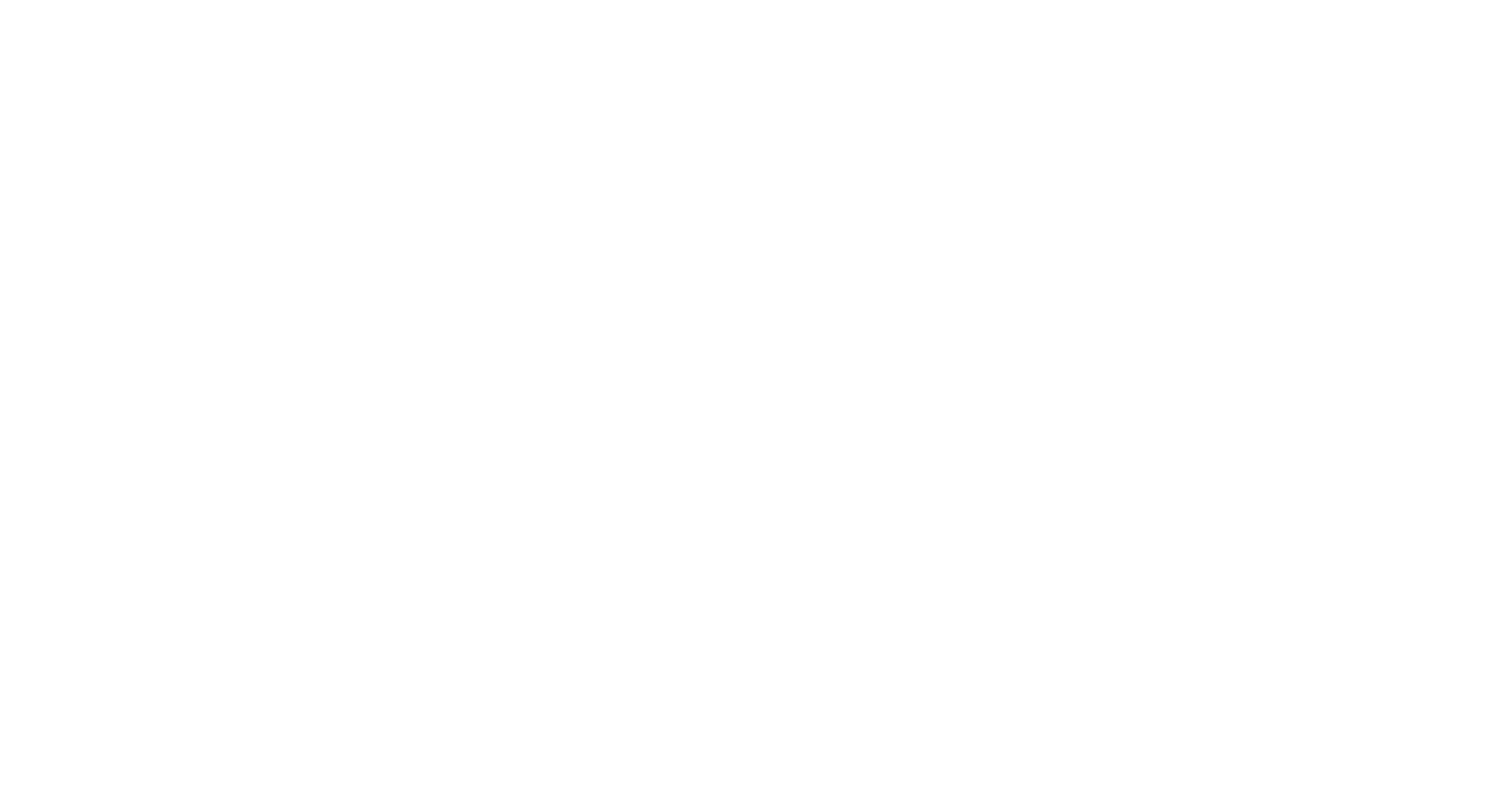
Водка «Праздничная», бутылка 0,7, год назад стоила 200 рублей, нынче 250.
Плавленый сырок «Дружба»: раньше 30 рублей, теперь 36. За штуку.
Хлебцы «Молодцы» с экстрактом виноградных косточек. В прошлом году — 33 рубля за пачку, в этом — 41.
Паштет из печени трески. В наши дни 50 рублей за 100 грамм против 40 в лучшие времена.
Заметьте, средняя инфляция по всем видам ТНП — 20%. Не меньше. И пусть клятые министры идут лесом. Если умеют, конечно.
Плюс квартплата, именуемая в эти мрачные времена не иначе как ЖКХ, выросла на 300 рублей в месяц.
Итого.
Я выпиваю — по необходимости, чтобы держаться в творческом тонусе — одну (всего одну, заметьте!) бутылку 0,7 «Праздничной» в сутки. Под 4 сырка «Дружба», полторы пачки хлебцев и 300 г трескового паштета.
Это значит, что в данном брейгелевом году я переплачиваю в любой Божий день 112 рублей. За месяц выходит 3360. Плюс ЖКХ — 3660. За 2 месяца — 7320.
Дополнительных расходов.
Это и есть минимальная стоимость авиабилета. Из Москвы, аэропорт Домодедово, в Вену, аэродром Эрнста Хаппеля или кого-то другого. Компанией S7, из того же сраного Домодедова.
До аэропорта я доеду на поезде. Бесплатно. Как бесплатно? — изумитесь вы. Ну, это ноу-хау. Еще не пришло грядущее время его раскрывать.
Но ведь надо там, в Австрии, на хоть что-то продержаться. Нет, если бы ввели жесткое госрегулирование цен хотя бы на «Праздничную», я бы сдюжил. Но никто не собирается вводить никакого регулирования. Только морочат народу голову. Чтобы не дать творцу, которого и так формально лишили доступа к Брейгелю, вкусить запретного.
И что же? Барьер я точно преодолею, как образ входит в образ и как предмет сечет предмет. Нам, творцам, не привыкать. Но как оказаться у стен Музеума, не имея ни одного дополнительного гроша?
Кстати, телефон свой я отключил. Там накопился долг 21 тыс. руб. 80,4 бутылки «Праздничной». Они издеваются. Думают, что мне действительно надо с кем-то разговаривать. Или кого-то слушать, особенно. Не понимают, что сила творчества — в тишине. Оно же и молчание. Если вы предпочитаете Пастернака. В сущности, где тишина, там молчание, и наоборот.
И я, должен сказать вам, вкусил легкий оттенок блаженства. Отныне я не получаю никаких неважных сигналов. Никто не станет звонить мне, чтобы узнать, как дела и почем настроение. Не напросится на распивание «Праздничной» в моей солнечно-одинокой гостиной, где десять месяцев не ступала нога уборщицы. И убирать-то там нечего, ибо пустые бутылки и фантики от плавленых сырков «Дружба» я сам могу собрать с пола и кинуть в мусоропровод.
Но во всем этом есть и обратный нюанс.
Я не могу никому позвонить и попросить в долг. Правда, я в состоянии заполучить городскую телефонную трубку в каком-то окрестном кафе. Но это пошло и немодно. К тому ж я и так достал их всех мелкими просьбами за последние времена.
Стало быть, чтобы отправиться в Вену, мне необходимо с кого-то взять денег. Срубить, если не слишком интеллигентно. Кому будет очень желанно видеть меня на выставке Брейгеля. С каким-нибудь предсказуемым — или совсем даже непредвиденным — результатом.
Что ж, день только начинается, и я тоже пытаюсь начаться вдоль его рассеянной радиации.
Плавленый сырок «Дружба»: раньше 30 рублей, теперь 36. За штуку.
Хлебцы «Молодцы» с экстрактом виноградных косточек. В прошлом году — 33 рубля за пачку, в этом — 41.
Паштет из печени трески. В наши дни 50 рублей за 100 грамм против 40 в лучшие времена.
Заметьте, средняя инфляция по всем видам ТНП — 20%. Не меньше. И пусть клятые министры идут лесом. Если умеют, конечно.
Плюс квартплата, именуемая в эти мрачные времена не иначе как ЖКХ, выросла на 300 рублей в месяц.
Итого.
Я выпиваю — по необходимости, чтобы держаться в творческом тонусе — одну (всего одну, заметьте!) бутылку 0,7 «Праздничной» в сутки. Под 4 сырка «Дружба», полторы пачки хлебцев и 300 г трескового паштета.
Это значит, что в данном брейгелевом году я переплачиваю в любой Божий день 112 рублей. За месяц выходит 3360. Плюс ЖКХ — 3660. За 2 месяца — 7320.
Дополнительных расходов.
Это и есть минимальная стоимость авиабилета. Из Москвы, аэропорт Домодедово, в Вену, аэродром Эрнста Хаппеля или кого-то другого. Компанией S7, из того же сраного Домодедова.
До аэропорта я доеду на поезде. Бесплатно. Как бесплатно? — изумитесь вы. Ну, это ноу-хау. Еще не пришло грядущее время его раскрывать.
Но ведь надо там, в Австрии, на хоть что-то продержаться. Нет, если бы ввели жесткое госрегулирование цен хотя бы на «Праздничную», я бы сдюжил. Но никто не собирается вводить никакого регулирования. Только морочат народу голову. Чтобы не дать творцу, которого и так формально лишили доступа к Брейгелю, вкусить запретного.
И что же? Барьер я точно преодолею, как образ входит в образ и как предмет сечет предмет. Нам, творцам, не привыкать. Но как оказаться у стен Музеума, не имея ни одного дополнительного гроша?
Кстати, телефон свой я отключил. Там накопился долг 21 тыс. руб. 80,4 бутылки «Праздничной». Они издеваются. Думают, что мне действительно надо с кем-то разговаривать. Или кого-то слушать, особенно. Не понимают, что сила творчества — в тишине. Оно же и молчание. Если вы предпочитаете Пастернака. В сущности, где тишина, там молчание, и наоборот.
И я, должен сказать вам, вкусил легкий оттенок блаженства. Отныне я не получаю никаких неважных сигналов. Никто не станет звонить мне, чтобы узнать, как дела и почем настроение. Не напросится на распивание «Праздничной» в моей солнечно-одинокой гостиной, где десять месяцев не ступала нога уборщицы. И убирать-то там нечего, ибо пустые бутылки и фантики от плавленых сырков «Дружба» я сам могу собрать с пола и кинуть в мусоропровод.
Но во всем этом есть и обратный нюанс.
Я не могу никому позвонить и попросить в долг. Правда, я в состоянии заполучить городскую телефонную трубку в каком-то окрестном кафе. Но это пошло и немодно. К тому ж я и так достал их всех мелкими просьбами за последние времена.
Стало быть, чтобы отправиться в Вену, мне необходимо с кого-то взять денег. Срубить, если не слишком интеллигентно. Кому будет очень желанно видеть меня на выставке Брейгеля. С каким-нибудь предсказуемым — или совсем даже непредвиденным — результатом.
Что ж, день только начинается, и я тоже пытаюсь начаться вдоль его рассеянной радиации.
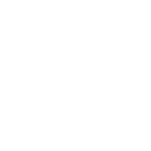
Последнее, что связывает мое жилище с враждебным ему (и мне) материальным миром, — интернет. Здесь я не экономлю. 600 рублей в месяц. Зачем-то не дорожает. МТС. Черный такой модем, вставляемый прямо в компьютер, в его дряблую паштетную плоть. Я заляпал компьютер разными смесями из трески и отходов, но он работает все еще. Может быть, из жалости ко мне (с). Почему все дорожает, кроме черного модема, — разобрать невозможно. Если исполниться глубокого чувства собственной значительности, можно представить, что кто-то очень важный хочет знать, что я, Белковский, думаю и чем интересуюсь. И оттого не повышает мне плату, чтобы перлюстрировать мои мысли. Но «Праздничная», особенно если не больше 0,7 в сутки, значительности не дает. Коричневый ирландский виски — другое дело, но как его теперь раздобыть?!
В интернете еще существует Фейсбук. Он никогда не был мне близок. Пока я не решил поддержать чемпиона мира по шахматам А. Е. Карпова на выборах президента ФИДЕ. Это так называется Всемирная шахматная федерация (ВШФ), а почему не три буквы, а четыре, я забыл. Наверное, потому что у нас бывает слово из трех букв, а у них — то же самое, но из четырех.
Короче, для *** этого Карпова, оказавшегося в оконцовке полным чмом и уродом, надо было завести Фейсбук. Чтобы примкнуть к какому-то там сообществу друзей чемпиона. Он, правда, бывший чемпион, проиграл безвозвратно в 1985-м. Но бывших здесь не бывает, как среди президентов, королей и покойников. Я прежде не входил в это сообщество и ни в какое другое. Но примкнул. Иначе зачем же было заводить Фейсбук? Корм, знаете ли, пошел не в коня. Ни в шахматного, ни в самого настоящего, из сенной деревни. Мудак Карпов в день выборов ФИДЕ нажрался в хлам, из которого он есть и куда возвратится, и не смог внятно назвать свое имя. Его спрашивают, точнее, просто ему говорят, императивно и диспозитивно: огласи свое имя, пожалуйста. А он в ответ: я типа Каспаров. А не Карпов, как многие думали. Каспаров ведь тоже был когда-то чемпионом мира, хотя и с двумя добавочными буквами в титульном имени. Тут все и поняли, что старый мудак с утра прихватил пол-литра, не меньше, и без закуси. И выбрали другого, которого звали, как нынче помню, Кирсан Илюмжинов. У него было такое сложное имя, что не перепутаешь уж никак. Сложное вообще не забывается, в отличие от простого. Так устроена наша кристаллическая решетка, похожая на отверстие ливневой канализации.
В общем, Фейсбук. На своей странице — это так у них называется — я написал текст. Зазывной и призывной одноврЕменно. Я всегда здесь ставлю заглавную Е, чтобы ненароком не ударить на последующий слог. Прогрессивная общественность мне этого не простила б.
В интернете еще существует Фейсбук. Он никогда не был мне близок. Пока я не решил поддержать чемпиона мира по шахматам А. Е. Карпова на выборах президента ФИДЕ. Это так называется Всемирная шахматная федерация (ВШФ), а почему не три буквы, а четыре, я забыл. Наверное, потому что у нас бывает слово из трех букв, а у них — то же самое, но из четырех.
Короче, для *** этого Карпова, оказавшегося в оконцовке полным чмом и уродом, надо было завести Фейсбук. Чтобы примкнуть к какому-то там сообществу друзей чемпиона. Он, правда, бывший чемпион, проиграл безвозвратно в 1985-м. Но бывших здесь не бывает, как среди президентов, королей и покойников. Я прежде не входил в это сообщество и ни в какое другое. Но примкнул. Иначе зачем же было заводить Фейсбук? Корм, знаете ли, пошел не в коня. Ни в шахматного, ни в самого настоящего, из сенной деревни. Мудак Карпов в день выборов ФИДЕ нажрался в хлам, из которого он есть и куда возвратится, и не смог внятно назвать свое имя. Его спрашивают, точнее, просто ему говорят, императивно и диспозитивно: огласи свое имя, пожалуйста. А он в ответ: я типа Каспаров. А не Карпов, как многие думали. Каспаров ведь тоже был когда-то чемпионом мира, хотя и с двумя добавочными буквами в титульном имени. Тут все и поняли, что старый мудак с утра прихватил пол-литра, не меньше, и без закуси. И выбрали другого, которого звали, как нынче помню, Кирсан Илюмжинов. У него было такое сложное имя, что не перепутаешь уж никак. Сложное вообще не забывается, в отличие от простого. Так устроена наша кристаллическая решетка, похожая на отверстие ливневой канализации.
В общем, Фейсбук. На своей странице — это так у них называется — я написал текст. Зазывной и призывной одноврЕменно. Я всегда здесь ставлю заглавную Е, чтобы ненароком не ударить на последующий слог. Прогрессивная общественность мне этого не простила б.
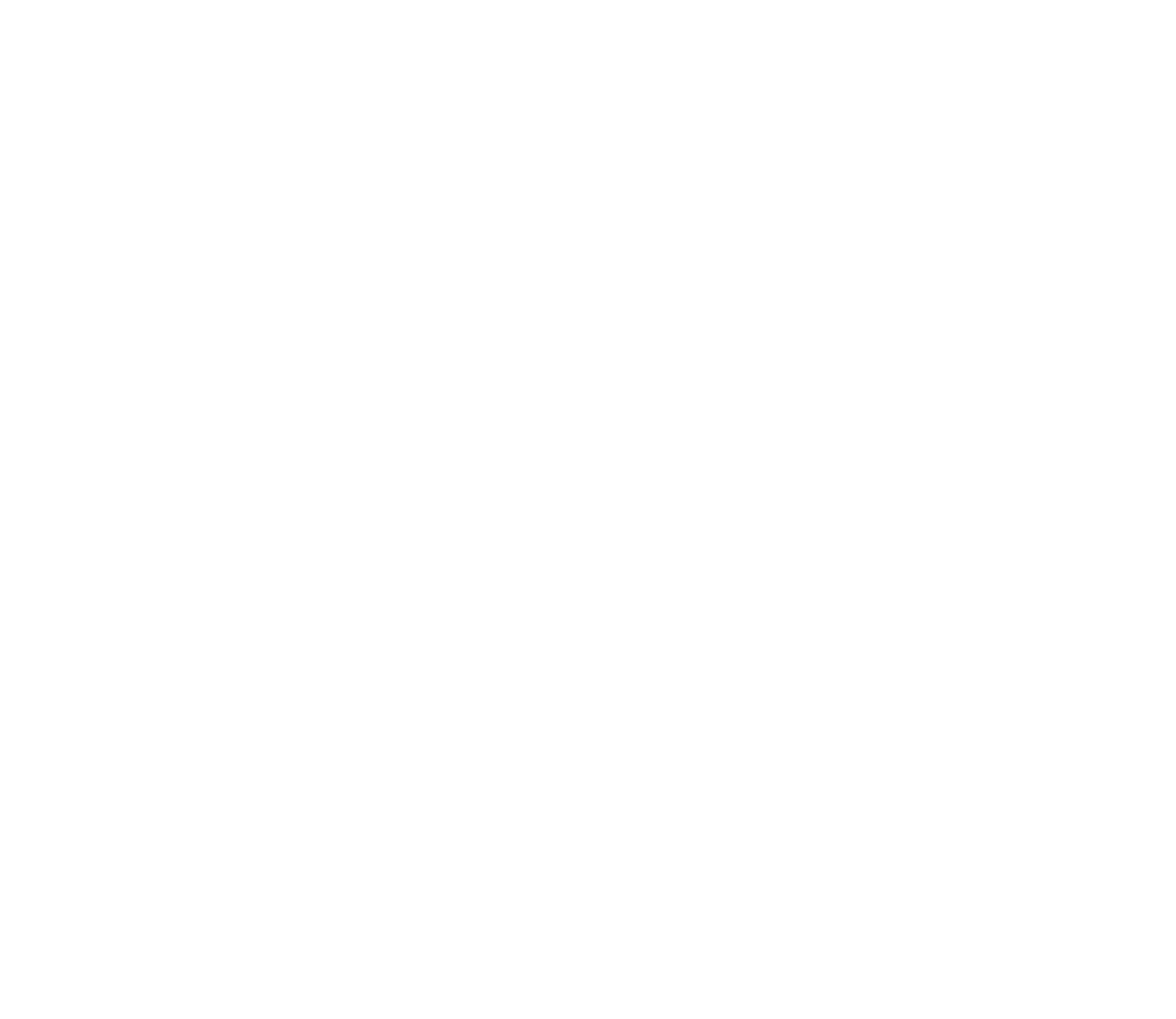
Дорогие друзья, — накорябал я в меланхолическом задоре.
Собираюсь типа поехать в Вену, в Кунстхисторишес Музеум, площадь Марии Терезии, на выставку этого вашего Питера Брейгеля-старшего. Ищу спонсора. В благодарность — напишу 2–3 текста про выставку с упоминанием донатора/бенефактора. Или без упоминания, а с полным обслуживанием тайных его интересов. Например. Если спонсор — водка «Столичная», то напишу, что от полотен великого Брейгеля воняет исключительно «Столичной». А не «Праздничной» ни в одном глазу, ибо для классика нидерландской живописи это сталось бы слишком дешево.
Скоро выставка закрывается, так что поторопитесь с решением, плиз. Пишите мне в личку (тайно, а не чтобы для всех и при всех), и достигнем сходных условий. Простите вам за внимание.
В личку! Бывают же такие самоунизительные слова. Террибли сорри.
Собираюсь типа поехать в Вену, в Кунстхисторишес Музеум, площадь Марии Терезии, на выставку этого вашего Питера Брейгеля-старшего. Ищу спонсора. В благодарность — напишу 2–3 текста про выставку с упоминанием донатора/бенефактора. Или без упоминания, а с полным обслуживанием тайных его интересов. Например. Если спонсор — водка «Столичная», то напишу, что от полотен великого Брейгеля воняет исключительно «Столичной». А не «Праздничной» ни в одном глазу, ибо для классика нидерландской живописи это сталось бы слишком дешево.
Скоро выставка закрывается, так что поторопитесь с решением, плиз. Пишите мне в личку (тайно, а не чтобы для всех и при всех), и достигнем сходных условий. Простите вам за внимание.
В личку! Бывают же такие самоунизительные слова. Террибли сорри.
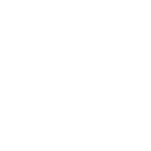
Не люблю эту букву. Она пошлая, как гильотина. Пропускаем.
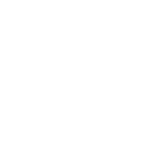
Я предпочитаю гулять по Патриаршим прудам, когда только-только начинает темнеть. В наши времена это — от половины пятого до пяти пополудни.
А почему мне это? А вот почему.
У меня все еще довольно узнаваемое *** . И когда я иду мимо всяких баров, которые доселе похожи на мою молодость глупым оптимизмом и ложным пафосом, разные джентльмены, думающие, что где-то меня видели, слышали, осязали и/или обоняли, стремятся угостить старика Белковского чем-то крепким. И даже не всегда водкой. А часто и на мой выбор. Правда, среди джентльменов попадаются иногда и леди. Но они заказывают свои дары за счет джентльменов, так что как бы и все равно.
Жизнь хиреет, и не только моя. Раньше мне щедрей всего наливали в баре «Березка». И его, конечно, закрыли накануне прошедшего Успения. Остались, правда, пышная «Винерия» красного цвета и невнятная «Маргарита». Там в начале конца рабочего дня можно принять на халяву с вероятностью 39%. Меньше половины, но больше нуля. Последнее всегда важнее.
Пост (не путать с ситуацией, когда от христианского безденежья нечего есть и впадаешь в принужденный аскетизм) в Фейсбуке появился в ранней тени полудня. Выход же в меркнущий свет состоялся в 16:34. Телефон мой давно не работает, и слава Богу (см. выше). Но он по-прежнему служит мне часовым механизмом. Я знаю время, знаю во всей его плавучей полноте и очерченной точности, а что может быть сладостней для творца!
— Это вы Белковский?
Грубоватый голос прозвучал с угла, от аптеки. Разве так ко мне обращаются с предложением близлежащей выпивки? Нет. Вряд ли. Это сигнал какого-то мента или просто силовика. Только они говорят без имени, отчества, звания, титула и даже сонорной улыбки. Что-то здесь не так. Неужели кто-то явился требовать с меня давний долг в тридцать тысяч рублей? Непорядок. Зачем я только решил оставить свою конуру еще до полного заката данного дня?!
— Кажется, да. А что?
— Вам большой привет от Дмитрия Евгеньевича Рыболовлева.
А почему мне это? А вот почему.
У меня все еще довольно узнаваемое *** . И когда я иду мимо всяких баров, которые доселе похожи на мою молодость глупым оптимизмом и ложным пафосом, разные джентльмены, думающие, что где-то меня видели, слышали, осязали и/или обоняли, стремятся угостить старика Белковского чем-то крепким. И даже не всегда водкой. А часто и на мой выбор. Правда, среди джентльменов попадаются иногда и леди. Но они заказывают свои дары за счет джентльменов, так что как бы и все равно.
Жизнь хиреет, и не только моя. Раньше мне щедрей всего наливали в баре «Березка». И его, конечно, закрыли накануне прошедшего Успения. Остались, правда, пышная «Винерия» красного цвета и невнятная «Маргарита». Там в начале конца рабочего дня можно принять на халяву с вероятностью 39%. Меньше половины, но больше нуля. Последнее всегда важнее.
Пост (не путать с ситуацией, когда от христианского безденежья нечего есть и впадаешь в принужденный аскетизм) в Фейсбуке появился в ранней тени полудня. Выход же в меркнущий свет состоялся в 16:34. Телефон мой давно не работает, и слава Богу (см. выше). Но он по-прежнему служит мне часовым механизмом. Я знаю время, знаю во всей его плавучей полноте и очерченной точности, а что может быть сладостней для творца!
— Это вы Белковский?
Грубоватый голос прозвучал с угла, от аптеки. Разве так ко мне обращаются с предложением близлежащей выпивки? Нет. Вряд ли. Это сигнал какого-то мента или просто силовика. Только они говорят без имени, отчества, звания, титула и даже сонорной улыбки. Что-то здесь не так. Неужели кто-то явился требовать с меня давний долг в тридцать тысяч рублей? Непорядок. Зачем я только решил оставить свою конуру еще до полного заката данного дня?!
— Кажется, да. А что?
— Вам большой привет от Дмитрия Евгеньевича Рыболовлева.
Я теперь вижу, кто задает вопрос. Прямоугольный человек с неестественной сединой. Рост 204. Точь-в-точь как у царя Петра Первого. Шея плотная, но свободная. Не боксер и не борец, но точно не чужд этому их спортзалу. Лицо плоское, как земной диск у старика Хоттабыча. Нос скромный, втрое меньше моего. Впрочем, зачем в эти времена крупный нос? Что им делать? Все блаженственные запахи остались в ювенильном прошлом.
Я, конечно, слышал про Дмитрия Евгеньевича Рыболовлева. Точнее, читал про него. X раз. Большой жулик, затопивший какие-то калийные месторождения близ Перми. Получивший за то пять миллиардов долларов. Он все вложил в искусственные произведения. Но был жестко кинут дилером Бувье (это швейцарская фамилия, а не французская, как многие думают) и потерял типа миллиард долларов. Всего один из пяти, так что не страшно. Но зато впарил арабам из Эмиратов полный фальшак — картину «Спаситель мира». Которая объявлена была как Леонардо да Винчи, а написали ее какие-то монмартрские подмастерья веке так в девятнадцатом. Нереальный спаситель ушел за четыреста миллионов. То была самая дорогая сделка в истории искусств. В общем, круто *** Дмитрий Евгеньевич этих арабов. Они даже хотели выставить «Спасителя» у себя в Дубае. Но вовремя спохватились. Ладно 400 миллионов, они уже тю-тю, а как же их ушло-дошлое реноме? Кто же арабов с их титаническими нефтедолларами после такого уважать не перестанет? Так наследный принц всех арабов, стандартный чувак в белой ночной рубашке с полотенцем и обручем на голове, постановил господина Рыболовлева схватить в их консульстве в Стамбуле, расчленить и сварить в соляной кислоте. Агенты принца все так и сделали, только обознались: вместо русского магната сварили какого-то стамбульского еврея, на него болезненно похожего. Так что теперь Дмитрий Евгеньевич прохлаждается себе в Монако, посмеиваясь в спасительный кулачок. Любой глупый убыток обернется когда-нибудь умной прибылью, так заведена жизнь.
Нет, всего этого я незнакомцу у аптеки рассказывать не стану. Я просто скажу возвышенно, как и полагается в приближении декабрьской тьмы:
Я, конечно, слышал про Дмитрия Евгеньевича Рыболовлева. Точнее, читал про него. X раз. Большой жулик, затопивший какие-то калийные месторождения близ Перми. Получивший за то пять миллиардов долларов. Он все вложил в искусственные произведения. Но был жестко кинут дилером Бувье (это швейцарская фамилия, а не французская, как многие думают) и потерял типа миллиард долларов. Всего один из пяти, так что не страшно. Но зато впарил арабам из Эмиратов полный фальшак — картину «Спаситель мира». Которая объявлена была как Леонардо да Винчи, а написали ее какие-то монмартрские подмастерья веке так в девятнадцатом. Нереальный спаситель ушел за четыреста миллионов. То была самая дорогая сделка в истории искусств. В общем, круто *** Дмитрий Евгеньевич этих арабов. Они даже хотели выставить «Спасителя» у себя в Дубае. Но вовремя спохватились. Ладно 400 миллионов, они уже тю-тю, а как же их ушло-дошлое реноме? Кто же арабов с их титаническими нефтедолларами после такого уважать не перестанет? Так наследный принц всех арабов, стандартный чувак в белой ночной рубашке с полотенцем и обручем на голове, постановил господина Рыболовлева схватить в их консульстве в Стамбуле, расчленить и сварить в соляной кислоте. Агенты принца все так и сделали, только обознались: вместо русского магната сварили какого-то стамбульского еврея, на него болезненно похожего. Так что теперь Дмитрий Евгеньевич прохлаждается себе в Монако, посмеиваясь в спасительный кулачок. Любой глупый убыток обернется когда-нибудь умной прибылью, так заведена жизнь.
Нет, всего этого я незнакомцу у аптеки рассказывать не стану. Я просто скажу возвышенно, как и полагается в приближении декабрьской тьмы:
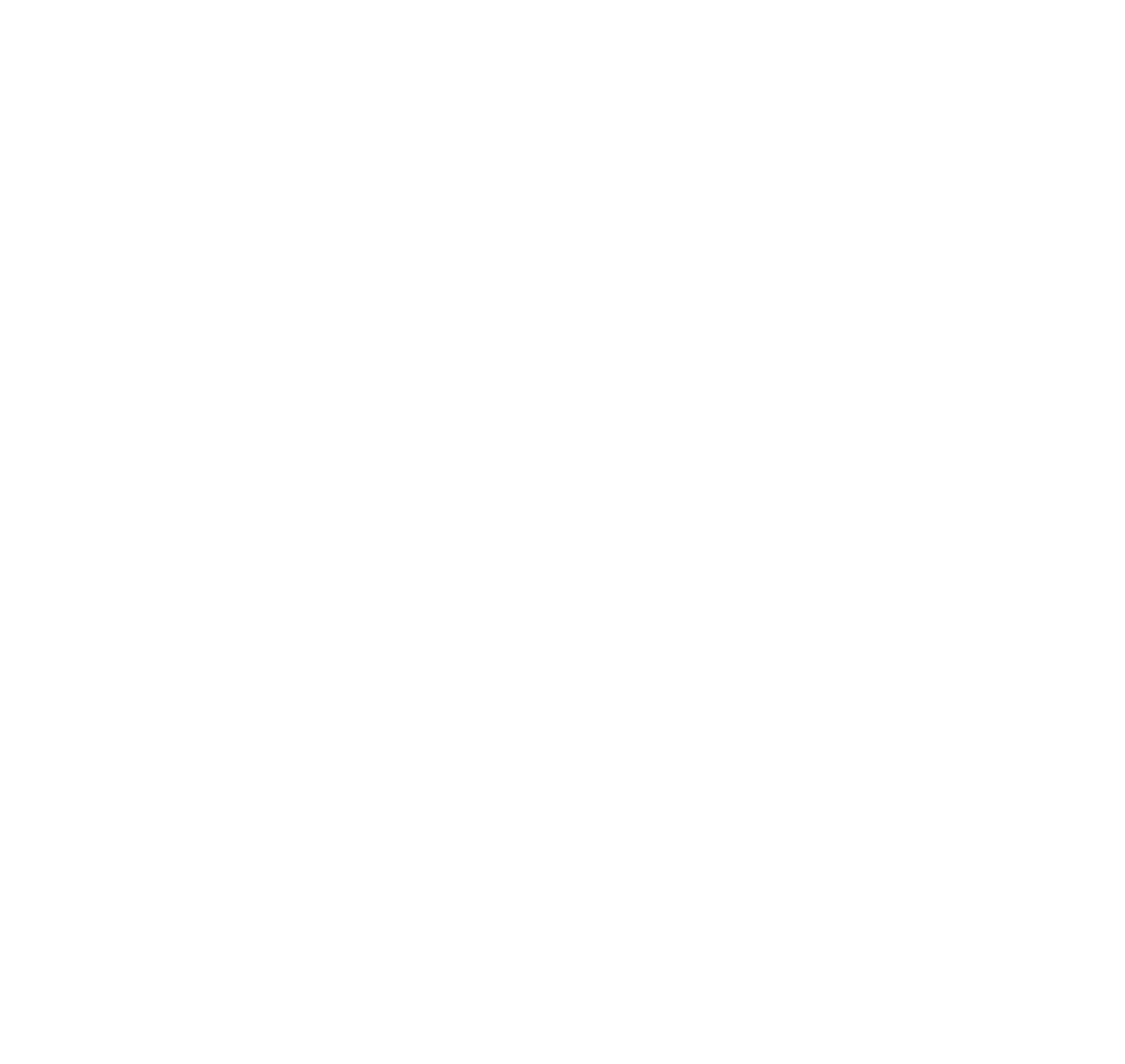
— Да-да, Дмитрию Евгеньевичу от Станислава Александровича тоже большой привет.
Отметив тем самым, что:
- Меня таки называют Станислав Александрович, а не просто по фамилии за сумеречные два метра.
- Я как будто знаком с г-ном Рыболовлевым — хотя на самом деле, конечно, нет. А то и меня могли б сварить арабы во имя Спасителя Мира. Я не то чтобы боялся когда-то арабов, но соляная кислота смущает меня со времен школьной химической лаборатории
Кстати. Некогда я слушал лекцию о том, как общаться на улице с незнакомцами. Это было в лектории-рюмочной «Зюзино», на самом юге Москвы. Меня пригласили как вроде VIP-слушателя. VIP-слушателям полагалась скидка на водку «Московскую» 50 процентов, вот я и пошел.
Тезисы анонса лекции были такие:
- Как выглядят и ведут себя похитители детей и какие простые правила нужно соблюдать ребенку, чтобы предотвратить беду? Они не носят черных масок или плащей. Это улыбчивые люди с приятным голосом, которые просто предлагают что-то веселое, интересное или вкусное. Но как ребенку не попасть под влияние этих преступников? На лекции собраны и систематизированы данные поисковых отрядов и Следственного комитета РФ.
- Как вести себя, если посторонний человек просит о помощи? Если ваш ребенок отзывчив и не может отказать взрослому в беде, эта лекция для вас. Железное правило на все времена: если взрослому нужна помощь, он никогда не обратится за помощью к ребенку. Мы подробно разберемся в этом с детьми.
- Что делать ребенку, если на него все-таки напали? Вам тоже страшно думать и говорить об этом? На этот вопрос в лекции будут ответы: главное — это выиграть драгоценные секунды, чтобы злоумышленник ослабил хватку и можно было вырваться и бежать со всех ног.
Да, а при чем там дети, спросите вы. Да уж понятно. Лекция-то была для детей. Но они почти не пили «Столичную», бестолковые сорванцы. И больше досталось мне. Я не расслышал, как-таки отбиться от скверного незнакомца. А очнулся, когда мое непорочное тело уже грузили в экономическое такси.
А сейчас двухметровый малютка, мой Петр Первый приблизился ко мне вплотную. Мне стали заметны даже полоски румянца на том, что когда-то было его лицом (с):
— Дмитрий Евгеньевич просил переговорить с вами по поводу вашей поездки в Вену. Вы же хотите, чтобы вам оплатили поездку в Вену, так ведь?
«Станислав Александрович» он выговорить не может, но суть дела передает практически правильно. Пойдем ему навстречу, во всех географических смыслах.
— Ну, что-то типа того. А как и где мы станем это обсуждать?
Царь-младенец изобразил на стадионном лице нечто среднее между улыбкой и омерзением.
— А мы вот зайдем в отель «Марко Поло» и проговорим все по-быстрому. У вас есть время?
Надо же, уже почти вежливо. Есть ли у меня время? Нет. Это я есть у времени. И пока аксиома верна, а неверным постулат быть не может, это время никуда не уйдет. Оно не разбросается мною. Ибо я не камень, который надо лишь изредка собирать. Меня надобно хранить в сокровенном сейфе, как алмаз «Зеница ока».
Мы двинули в «Марко Поло». «Марко Поло Пресня», хотя к Пресне Патриарший пруд не имеет ни малейшего отношения. Это все равно как в Зюзине построить крутую гостиницу и назвать ее «St. Regis Теплый Стан». А какой, на хрен, в Зюзине Теплый Стан? Но мы-то все понимаем, ладно. Когда-то здесь была гостиница ЦК КПСС «Краснопресненская». Ее так назвал товарищ Никита Хрущев, вечно путавшийся в московской топонимике. И потом, когда стали делать пристойный отель, это дурацкое «Пресня» надо было как-то названии сохранить. Да и хрен с ним.
Я благоговел перед «Марко Поло». Много лет назад я заработал последние серьезные деньги на выборах мэра Сергиева Посада Моск. обл. И сразу же, понятное дело, ушел от жены. Решив, что жизнь только начинается. А она ведь, эта жизнь, и вправду начинается всякий момент, пока не заканчивается. И тогда я неделю напролет жил в отеле. Где был круглосуточный бар «Дон Педро». И я там бухал круглосуточно, чтобы не обманывать ожиданий барменов. Пока отель не вызвал нарколога. Тот вывел меня из запоя, но все это почему-то включили в счет. Спрашивается: если вы сами around the clock соблазняете меня бухлом, то почему не можете оплатить простого врача с его нависающей капельницей? Справедливо ли так? Я обиделся и уехал в съемную квартиру на Новослободской. Там я тоже долго не продержался. Потому что, как выяснилось, в той квартирке — однокомнатной, метров тридцать, не больше — под полом зарыли труп ее прежнего хозяина. И по ночам призрак владельца стучался снизу, требуя вернуть ему доступ в былое жилище. Я же — таково базовое правило моего частножития — никогда не открываю незнакомцам, особенно если мы с ними заранее не договорились. Почти как учили меня на лекции в рюмочной «Зюзино». Трудна жизнь, если она только начинается.
Мы зашли в отель. И даже заняли отдельную переговорную. Которая называлась «Вена». Да-да, именно так, тематически! Немного жаль, что не в баре. Там бы точно налили за рыболовий счет. Нальют ли в переговорной? Догадаются ли? Донесут ли?
— Семен.
— Станислав Александрович.
Незнакомец уже не был мне столь чужд.
— Я сразу к делу, чтобы ценить наше время.
Это сказал он, не я. Линии румянца на щеках его сворачивались в синусоиды.
— Мы предлагаем следующее. Вы едете в Вену. В Австрию.
Как будто бывает Вена не в Австрии! А еще Семен. Хотя чего и где только не бывает. Вон в Америке, которая США, есть Санкт-Петербург. И даже с музеем Дали. А в нашем примордиальном Питере музея Дали нет как нет. Я не могу назвать себя поклонником этого мастера, но меня всего обжигала его страсть к природе.
— На двое суток. Мы оплачиваем вам перелет бизнес-классом. «Остриан Эрлайнз». Две ночи в отеле «Захер». Суточные 500 евро. Всего пятьсот евро. Не в сутки. 250 в сутки. За каждое из двух суток.
А сейчас двухметровый малютка, мой Петр Первый приблизился ко мне вплотную. Мне стали заметны даже полоски румянца на том, что когда-то было его лицом (с):
— Дмитрий Евгеньевич просил переговорить с вами по поводу вашей поездки в Вену. Вы же хотите, чтобы вам оплатили поездку в Вену, так ведь?
«Станислав Александрович» он выговорить не может, но суть дела передает практически правильно. Пойдем ему навстречу, во всех географических смыслах.
— Ну, что-то типа того. А как и где мы станем это обсуждать?
Царь-младенец изобразил на стадионном лице нечто среднее между улыбкой и омерзением.
— А мы вот зайдем в отель «Марко Поло» и проговорим все по-быстрому. У вас есть время?
Надо же, уже почти вежливо. Есть ли у меня время? Нет. Это я есть у времени. И пока аксиома верна, а неверным постулат быть не может, это время никуда не уйдет. Оно не разбросается мною. Ибо я не камень, который надо лишь изредка собирать. Меня надобно хранить в сокровенном сейфе, как алмаз «Зеница ока».
Мы двинули в «Марко Поло». «Марко Поло Пресня», хотя к Пресне Патриарший пруд не имеет ни малейшего отношения. Это все равно как в Зюзине построить крутую гостиницу и назвать ее «St. Regis Теплый Стан». А какой, на хрен, в Зюзине Теплый Стан? Но мы-то все понимаем, ладно. Когда-то здесь была гостиница ЦК КПСС «Краснопресненская». Ее так назвал товарищ Никита Хрущев, вечно путавшийся в московской топонимике. И потом, когда стали делать пристойный отель, это дурацкое «Пресня» надо было как-то названии сохранить. Да и хрен с ним.
Я благоговел перед «Марко Поло». Много лет назад я заработал последние серьезные деньги на выборах мэра Сергиева Посада Моск. обл. И сразу же, понятное дело, ушел от жены. Решив, что жизнь только начинается. А она ведь, эта жизнь, и вправду начинается всякий момент, пока не заканчивается. И тогда я неделю напролет жил в отеле. Где был круглосуточный бар «Дон Педро». И я там бухал круглосуточно, чтобы не обманывать ожиданий барменов. Пока отель не вызвал нарколога. Тот вывел меня из запоя, но все это почему-то включили в счет. Спрашивается: если вы сами around the clock соблазняете меня бухлом, то почему не можете оплатить простого врача с его нависающей капельницей? Справедливо ли так? Я обиделся и уехал в съемную квартиру на Новослободской. Там я тоже долго не продержался. Потому что, как выяснилось, в той квартирке — однокомнатной, метров тридцать, не больше — под полом зарыли труп ее прежнего хозяина. И по ночам призрак владельца стучался снизу, требуя вернуть ему доступ в былое жилище. Я же — таково базовое правило моего частножития — никогда не открываю незнакомцам, особенно если мы с ними заранее не договорились. Почти как учили меня на лекции в рюмочной «Зюзино». Трудна жизнь, если она только начинается.
Мы зашли в отель. И даже заняли отдельную переговорную. Которая называлась «Вена». Да-да, именно так, тематически! Немного жаль, что не в баре. Там бы точно налили за рыболовий счет. Нальют ли в переговорной? Догадаются ли? Донесут ли?
— Семен.
— Станислав Александрович.
Незнакомец уже не был мне столь чужд.
— Я сразу к делу, чтобы ценить наше время.
Это сказал он, не я. Линии румянца на щеках его сворачивались в синусоиды.
— Мы предлагаем следующее. Вы едете в Вену. В Австрию.
Как будто бывает Вена не в Австрии! А еще Семен. Хотя чего и где только не бывает. Вон в Америке, которая США, есть Санкт-Петербург. И даже с музеем Дали. А в нашем примордиальном Питере музея Дали нет как нет. Я не могу назвать себя поклонником этого мастера, но меня всего обжигала его страсть к природе.
— На двое суток. Мы оплачиваем вам перелет бизнес-классом. «Остриан Эрлайнз». Две ночи в отеле «Захер». Суточные 500 евро. Всего пятьсот евро. Не в сутки. 250 в сутки. За каждое из двух суток.
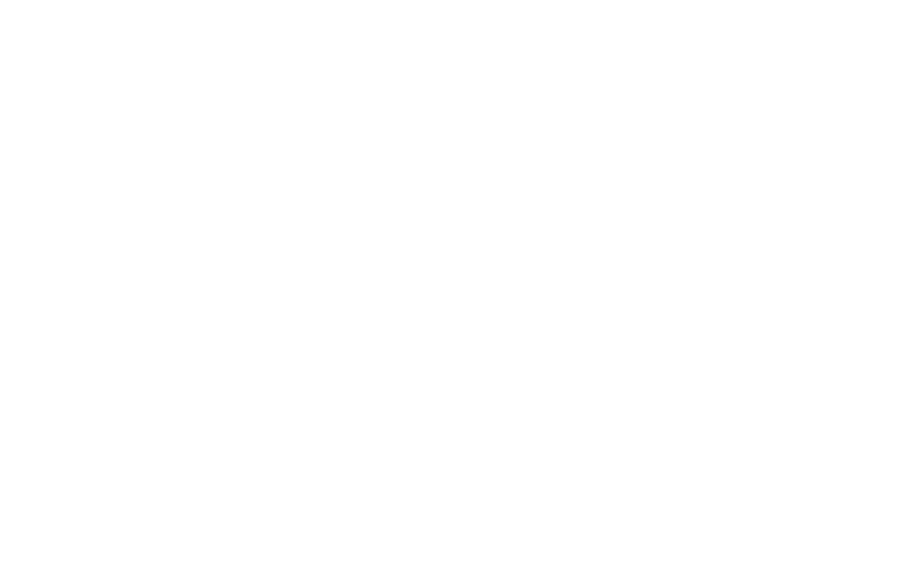
Он действительно думает, что слово «сутки» — среднего рода. Счастливый. Все среднее приносит удачу. Экстремальные же форматы часто ведут к гибели. Но совсем другое дело — как можно было прямо посередине габсбургской столицы, со всеми мирами ее и народами, канцлерами и фельдмаршалами, избытками и безумиями поставить отель с таким пошлым названием. «Захер»! Наша федеральная цензура нипочем бы этого не допустила. А там — дозволено. Коренные австрийцы вымирают, остаются одни арабы и негры, которым все захер.
Но если действительно дадут пятьсот евро, то я отложу сто пятьдесят на новые ботинки. Дело в том — я вам этого не говорил и не стоит вам знать — я уже три года хожу в одних и тех же ботинках. Зимой и летом. Весной и осенью, что то же самое. Других нет все равно. Я мог бы месяц не трогать «Праздничную», но утратил бы модус творца. А он куда выше ботинок. Что прохудились в четырех совокупно местах. Хорошо, если рыболовный Петр-Семен нынче этого не видит.
Стоп. Нет.
— Дорогой Семен. Но ведь есть еще мелкотранспортные расходы. Такси там, такси здесь. От «Захера» до музея и ровно наоборот. Я не помню этих цифр, но они рискуют сожрать все суточные.
Цифры ничем не рискуют. Они лишены чувства грядущей опасности. А он, мой ближайший незнакомец, может посчитать меня и мелочной скотиной. Но все равно надо поторговаться. Лучше быть скотиной, чем лохом. Первых не любят, вторых не уважают, а это куда страшнее. Арабы, кинутые «Спасителем мира», вам все объяснят, если что.
Семен всем телом изобразил экспрессионистический скепсис. Его глаза, и без того исчезающие с лица, принялись еще уменьшаться, словно прорези в тюремных дверях.
— Здесь вас отвезет наша машина. Офисная, разгонная. А на туда — ну, добавим 100 евров на такси. Не волнуйтесь. Вы не с нищими имеете дело.
Вы тоже! — хотел воскликнуть я, как лунарный Чацкий перед солярным Фамусовым. Но не воскликнул. Ведь содержание возгласа моего оказалось бы прямой ложью. А я давно стараюсь очень-очень умалчивать, но совершенно не лгать. Важнейший принцип классической этики: говоришь правду, правду, сплошную правду, но — не всю правду. Что-то оставляешь строго для личного потребления.
Комната в «Марко Поло» казалась мне все более пластмассовой. Оно так обветшало или и было таким же прежде? Когда я ушел от жены, все виделось мне из настоящего дерева. Красного и коричневого, как лики русского экстремизма. Я никогда не забуду ночлег в этой гостинице. Мне, вообще-то, не нравятся русские слова. Они или слишком торжественные, или с избытком слезливые. А вот ночлег — оно правильное русское слово. Нежное, какой не бывает наша мерзлота. Это нежность матери к заплутавшему сыну. Когда выходишь из власти абсолютной ночи, а пред тобою — камин и маленькая кровать с подоткнутым одеялом. К югу — Верден, к северу — Авиньон, но они уже не интересуют. Треволнует возможность забыться в материнском тепле. И если в упоении закрыть шлюзы, чтобы отрезать солнечный доступ, то можно спать, спать и спать. Под мамин посвист и тиканье выключенных часов.
— Дорогой Семен! Да, я неплохо разбираюсь в Брейгеле и намерен что-то развернутое написать после поездки. А поездка случится, так или иначе. Но вы мне скажете, в чем вам интерес? Почему вы готовы платить?
— Я вам покажу. Вот здесь. Это продиктовал Дмитрий Евгеньевич.
Бумажка была с печатными буквами. Никаких признаков живого г-на Рыболовлева, но явно в его стиле. Я не знал ключевых свойств этого уважаемого магната, но о чем-то можно и догадаться.
«Всего у ПБ 47 работ. Из них 45 — на выставке. Еще две — неизвестно где. Т. е. общие искусствоведы не знают. Но они известно где. В частной коллекции Д. Е. Рыболовлева. Это и есть лучшие работы ПБ. А выставка — говно. Половина там и так из этого музея. И двух лучших полотен нет. ***».
Последнее в записке увенчивало смысловую конструкцию, как рубиновый крест — большую императорскую корону.
— Правильно ли я понял, что в частной коллекции Дмитрия Евгеньевича находятся две главные работы Питера Брейгеля-старшего, я должен привлечь к этому внимание и описать их вкратце?
204 см замотали общей головой самым неопределенным образом. Как, наверное, мотаются лопасти Большого адронного коллайдера на автономном ходу. Это не значило ни да, ни нет, а что-то кинетической механике труднодоступное. Осталось послушать вербальную версию.
— Да, так. И не вкратце надо, а очень подробно. За вкратце мы бы столько платить не стали. Вкратце мы и так можем. Сами.
Столько! Что они знают про «столько», жалкие уроды, только что *** на 400 миллионов камарилью арабских шейхов! Измызгать, унизить, вытоптать творца — вот инстинкт этих тупомордых филистеров. Только ничего вслух, Белковский, молча-молча, Солнце (то самое!) еще высоко.
— А где я мог познакомиться с шедеврами из собрания Дмитрия Евгеньевича? В принципе где?
Вот ведь действительно — где? Семен осклабился так, будто ждал такого вопроса со времен ПТУ. Казалось, мышц его не хватит, чтобы выдержать эту пренебрегающую улыбку.
— Как где? На яхте. У Монте-Карло.
Да. Правда. Если я передавал привет магнату, то уж точно мог бывать у него на яхте. Кстати, как правильно говорить: «у Монте-Карло» или «на Монте-Карло»? Еще я слышал, что по-итальянски «Монако» — это «Мюнхен», а вовсе никакое не Монако, и потому, когда берешь билет из Италии до Монте-Карло, так и говори Монте-Карло, а то попадешь в Мюнхен, где ты и не нужен-то никому. Не то что в Кунстмузеуме в Вене.
Еще представить бы себе эту яхту. Я-то ни на одной в жизни не был. Кроме той, что везет провинциальных *** по Москве-реке, от гостиницы «Украина» (нынче она, кажется, «Радиссон-Украина» и принадлежит неким евреям; Радиссон — еврейская фамилия?) до парка Горького и обратно. Но это, верней всего, и не яхта в полном смысле fourletter word, а просто кораблик. Плывет-плывет кораблик по полой глади волн, вот что я вам скажу, дети мои.
— Хотите выпить чего-нибудь?
Ну, наконец-то. Я точно не мог брать такой разговор на себя. Хоть и не совсем лох — за такси доторговался, — но и не мелочная скотина. Ни в одном направлении бытия не надо забираться слишком далеко. Туда, где никакая служба спасения тебя уже не застанет.
— Да, давайте. Почему нет.
Вот действительно — почему нет. У меня что, на лице не все написано?
Не надо уточнять повестку дня. Он же не предложит мне водки. В семействах магнатов пьют подороже, особенно при посторонних.
— Может быть, простой ирландский виски? Скажем, двойной «Джеймисон»?
Можно подумать, одинарный «Джеймисон» не ирландский. Но нельзя не сказать «двойной». Тогда принесут пятьдесят. А это уж совсем позорище. Стоило за таким ходить с незнакомцем в картонную комнату непрестанного «Марко Поло».
Семен снял зеленую трубку кнопочного телефона. И нажал, кажется, клавишу «один». Это важно, что он нажал. Если я ничего не путаю и запомню, то смогу заходить в зальчик «Вена» и в одиночестве. Как будто в ожидании загадочных собеседников. И так же нажимать кнопку, и завороженным голосом изыскивать халявного виски. И никто с меня потом ничего не потребует, ибо уже привыкнут, что я прихожу сюда за важными делами для человечества.
— И лед попросите еще, пожалуйста, Семен.
— Двойной «Джеймисон», отдельно лед. А мне капучино с корицей.
Я слышал, что у магнатов нынче служащие в завязке до уровня ЗОЖ, но не предполагал, что настолько. Хотя это может быть и шифр специальный. Например, «с корицей» — это значит «с соткой коньяку на донышке». Чтобы никто не догадался. Кроме безымянной девицы на том берегу кнопочного чудовища. Хотя почему девицы? На том конце кого только не бывает по нынешним временам.
Ирландский виски пошел хорошо. Есть все же напитки и лучше «Праздничной», особенно если о них давно забываешь.
Но если действительно дадут пятьсот евро, то я отложу сто пятьдесят на новые ботинки. Дело в том — я вам этого не говорил и не стоит вам знать — я уже три года хожу в одних и тех же ботинках. Зимой и летом. Весной и осенью, что то же самое. Других нет все равно. Я мог бы месяц не трогать «Праздничную», но утратил бы модус творца. А он куда выше ботинок. Что прохудились в четырех совокупно местах. Хорошо, если рыболовный Петр-Семен нынче этого не видит.
Стоп. Нет.
— Дорогой Семен. Но ведь есть еще мелкотранспортные расходы. Такси там, такси здесь. От «Захера» до музея и ровно наоборот. Я не помню этих цифр, но они рискуют сожрать все суточные.
Цифры ничем не рискуют. Они лишены чувства грядущей опасности. А он, мой ближайший незнакомец, может посчитать меня и мелочной скотиной. Но все равно надо поторговаться. Лучше быть скотиной, чем лохом. Первых не любят, вторых не уважают, а это куда страшнее. Арабы, кинутые «Спасителем мира», вам все объяснят, если что.
Семен всем телом изобразил экспрессионистический скепсис. Его глаза, и без того исчезающие с лица, принялись еще уменьшаться, словно прорези в тюремных дверях.
— Здесь вас отвезет наша машина. Офисная, разгонная. А на туда — ну, добавим 100 евров на такси. Не волнуйтесь. Вы не с нищими имеете дело.
Вы тоже! — хотел воскликнуть я, как лунарный Чацкий перед солярным Фамусовым. Но не воскликнул. Ведь содержание возгласа моего оказалось бы прямой ложью. А я давно стараюсь очень-очень умалчивать, но совершенно не лгать. Важнейший принцип классической этики: говоришь правду, правду, сплошную правду, но — не всю правду. Что-то оставляешь строго для личного потребления.
Комната в «Марко Поло» казалась мне все более пластмассовой. Оно так обветшало или и было таким же прежде? Когда я ушел от жены, все виделось мне из настоящего дерева. Красного и коричневого, как лики русского экстремизма. Я никогда не забуду ночлег в этой гостинице. Мне, вообще-то, не нравятся русские слова. Они или слишком торжественные, или с избытком слезливые. А вот ночлег — оно правильное русское слово. Нежное, какой не бывает наша мерзлота. Это нежность матери к заплутавшему сыну. Когда выходишь из власти абсолютной ночи, а пред тобою — камин и маленькая кровать с подоткнутым одеялом. К югу — Верден, к северу — Авиньон, но они уже не интересуют. Треволнует возможность забыться в материнском тепле. И если в упоении закрыть шлюзы, чтобы отрезать солнечный доступ, то можно спать, спать и спать. Под мамин посвист и тиканье выключенных часов.
— Дорогой Семен! Да, я неплохо разбираюсь в Брейгеле и намерен что-то развернутое написать после поездки. А поездка случится, так или иначе. Но вы мне скажете, в чем вам интерес? Почему вы готовы платить?
— Я вам покажу. Вот здесь. Это продиктовал Дмитрий Евгеньевич.
Бумажка была с печатными буквами. Никаких признаков живого г-на Рыболовлева, но явно в его стиле. Я не знал ключевых свойств этого уважаемого магната, но о чем-то можно и догадаться.
«Всего у ПБ 47 работ. Из них 45 — на выставке. Еще две — неизвестно где. Т. е. общие искусствоведы не знают. Но они известно где. В частной коллекции Д. Е. Рыболовлева. Это и есть лучшие работы ПБ. А выставка — говно. Половина там и так из этого музея. И двух лучших полотен нет. ***».
Последнее в записке увенчивало смысловую конструкцию, как рубиновый крест — большую императорскую корону.
— Правильно ли я понял, что в частной коллекции Дмитрия Евгеньевича находятся две главные работы Питера Брейгеля-старшего, я должен привлечь к этому внимание и описать их вкратце?
204 см замотали общей головой самым неопределенным образом. Как, наверное, мотаются лопасти Большого адронного коллайдера на автономном ходу. Это не значило ни да, ни нет, а что-то кинетической механике труднодоступное. Осталось послушать вербальную версию.
— Да, так. И не вкратце надо, а очень подробно. За вкратце мы бы столько платить не стали. Вкратце мы и так можем. Сами.
Столько! Что они знают про «столько», жалкие уроды, только что *** на 400 миллионов камарилью арабских шейхов! Измызгать, унизить, вытоптать творца — вот инстинкт этих тупомордых филистеров. Только ничего вслух, Белковский, молча-молча, Солнце (то самое!) еще высоко.
— А где я мог познакомиться с шедеврами из собрания Дмитрия Евгеньевича? В принципе где?
Вот ведь действительно — где? Семен осклабился так, будто ждал такого вопроса со времен ПТУ. Казалось, мышц его не хватит, чтобы выдержать эту пренебрегающую улыбку.
— Как где? На яхте. У Монте-Карло.
Да. Правда. Если я передавал привет магнату, то уж точно мог бывать у него на яхте. Кстати, как правильно говорить: «у Монте-Карло» или «на Монте-Карло»? Еще я слышал, что по-итальянски «Монако» — это «Мюнхен», а вовсе никакое не Монако, и потому, когда берешь билет из Италии до Монте-Карло, так и говори Монте-Карло, а то попадешь в Мюнхен, где ты и не нужен-то никому. Не то что в Кунстмузеуме в Вене.
Еще представить бы себе эту яхту. Я-то ни на одной в жизни не был. Кроме той, что везет провинциальных *** по Москве-реке, от гостиницы «Украина» (нынче она, кажется, «Радиссон-Украина» и принадлежит неким евреям; Радиссон — еврейская фамилия?) до парка Горького и обратно. Но это, верней всего, и не яхта в полном смысле fourletter word, а просто кораблик. Плывет-плывет кораблик по полой глади волн, вот что я вам скажу, дети мои.
— Хотите выпить чего-нибудь?
Ну, наконец-то. Я точно не мог брать такой разговор на себя. Хоть и не совсем лох — за такси доторговался, — но и не мелочная скотина. Ни в одном направлении бытия не надо забираться слишком далеко. Туда, где никакая служба спасения тебя уже не застанет.
— Да, давайте. Почему нет.
Вот действительно — почему нет. У меня что, на лице не все написано?
Не надо уточнять повестку дня. Он же не предложит мне водки. В семействах магнатов пьют подороже, особенно при посторонних.
— Может быть, простой ирландский виски? Скажем, двойной «Джеймисон»?
Можно подумать, одинарный «Джеймисон» не ирландский. Но нельзя не сказать «двойной». Тогда принесут пятьдесят. А это уж совсем позорище. Стоило за таким ходить с незнакомцем в картонную комнату непрестанного «Марко Поло».
Семен снял зеленую трубку кнопочного телефона. И нажал, кажется, клавишу «один». Это важно, что он нажал. Если я ничего не путаю и запомню, то смогу заходить в зальчик «Вена» и в одиночестве. Как будто в ожидании загадочных собеседников. И так же нажимать кнопку, и завороженным голосом изыскивать халявного виски. И никто с меня потом ничего не потребует, ибо уже привыкнут, что я прихожу сюда за важными делами для человечества.
— И лед попросите еще, пожалуйста, Семен.
— Двойной «Джеймисон», отдельно лед. А мне капучино с корицей.
Я слышал, что у магнатов нынче служащие в завязке до уровня ЗОЖ, но не предполагал, что настолько. Хотя это может быть и шифр специальный. Например, «с корицей» — это значит «с соткой коньяку на донышке». Чтобы никто не догадался. Кроме безымянной девицы на том берегу кнопочного чудовища. Хотя почему девицы? На том конце кого только не бывает по нынешним временам.
Ирландский виски пошел хорошо. Есть все же напитки и лучше «Праздничной», особенно если о них давно забываешь.
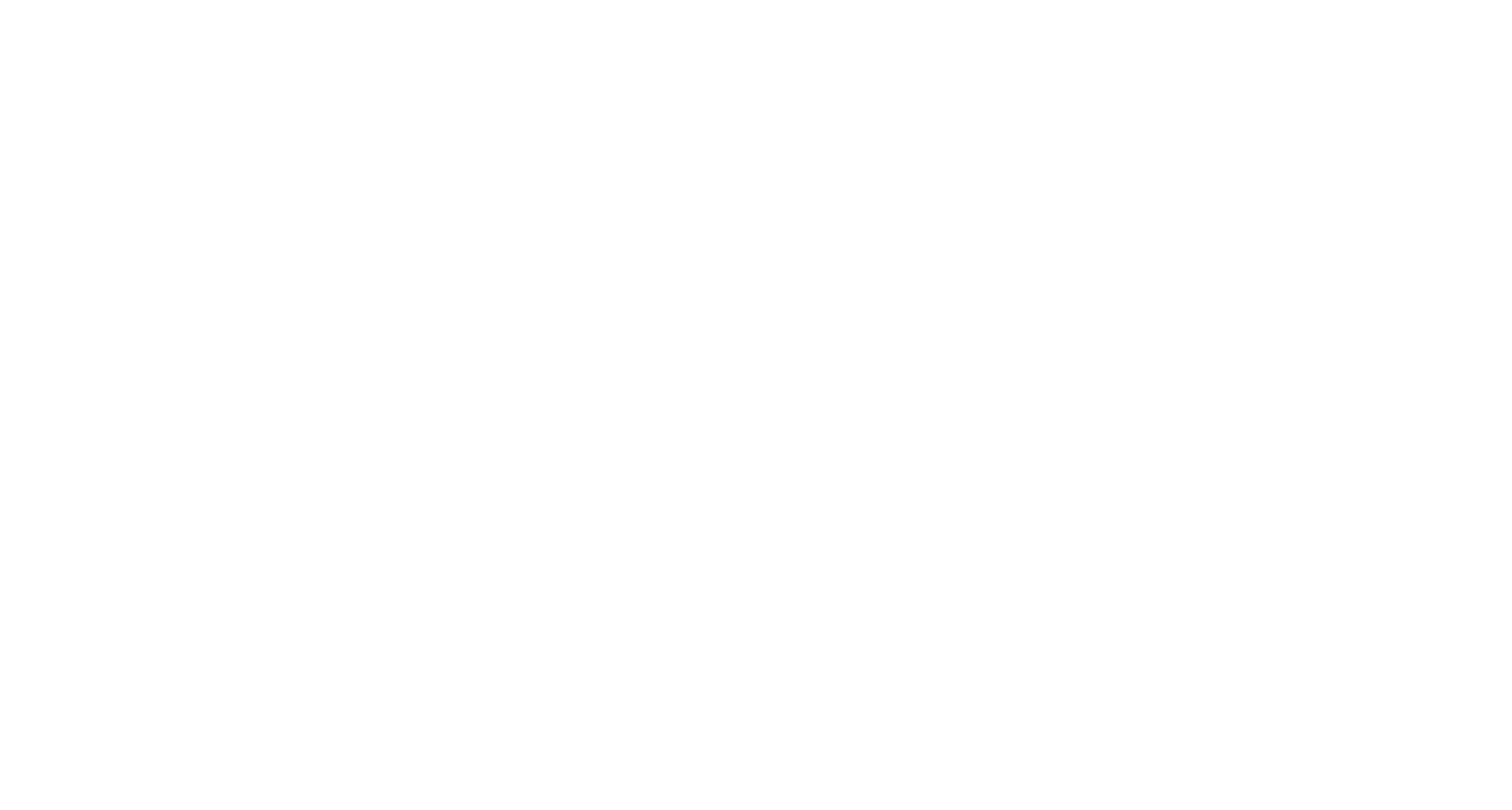
— Белковский.
Это было вымолвлено с усилием, словно попытка сдвинуть учтивым коленом пещерный рихтеровский «Стейнвей». Он привык называть нас по фамилиям, как советский учитель начальной школы.
— У вас есть виза?
Виза шенгенская у меня, как ни смешно, есть. Пятилетняя, а кончается года через два. Вы не поверите, но было так. В 2015-м, на 14 июля, меня пригласили на прием. Французское посольство. Почему пригласили — никто не знает. Зато все понимают. Ну, *** узнаваемое. Плюс: я был категорически против аннексии Крыма. Вот просто насмерть. Призывал ударить Шестым флотом США по нашему черноморскому. Ну, не совсем нашему, но все-таки, как-никак, черноморскому. Потом, правда, от призыва отрекся, но французы за тем не уследили. Они любили меня по прежней памяти Шестого флота.
Я почти уже нажрался сухим шампанским, когда заговорила со мной атташе по культуре. Атташе по культуре обычно работают разведчики. Не главные, а собирающие фактуру по мелочи. Типа кто с кем спит, а кто ходит на свингерские занятия. (Они так называются? Или правильно «вечеринки»?) То была приземистая парижская баба. С белыми непрокрашенными волосами. Дешевой бижутерией и дорогой сумкой. Хотя сумка могла быть и липовая китайская, шпионы это себе позволяют. Они вообще очень свободные люди, почти на грани мышления.
— Вы же приедете, дорогой Станислав, выступать к нам в Фонд Маршала Петэна?
— Разумеется, герцогиня. Но как же без визы к вам попасть? Визы-то нет у меня.
— Присылайте на днях, не позже, чем через неделю, а то все уйдут в отпуск до сентября, анкету, заявление и паспорт. Консульский отдел все очень быстро вам выдаст.
— А когда заседание в Фонде?
— 14 декабря. Прямо в Вердене. Очень на вас рассчитываем.
— О, маркиза… и всякая прочая ***.
Так я и получил визу. А в Верден, естественно, не поперся. То ли запил, то ли они больше не дозвонились. Точней не упомню.
Но сейчас-то я сидел, весь в визах и мечтах, перед лицом Семена. Который ни разу в жизни не был евреем, несмотря на вызывающее оторопь имя. Он точно славянин, хотя и под неострым кавказским соусом. Нынче так делают, и нередко. И только одна мысль пронзила меня в тот момент, как бронебойный шампур — маринованную баранину. А что, если меня не выпустят из России? За телефонный долг в 21 тыс. руб.? Я слышал, такое нынче бывает, везде и напропалую. Но об этом я подумаю, когда человек-204 передаст всю сумму. А то у меня мозги не резиновые.
— Видите ли, Семен, я не сравниваю себя с великими. С такими, как Дмитрий Евгеньевич, скажем. Но визы мне легко дают. Я же не зависим от российской власти. И на Западе меня ценят. Во всем свои преимущества.
Лицо незнакомца задвигалось сосудами по вертикали. Неясно было, хочет он заплакать или банально дергается.
— А какой у Вас телефон, Станислав Александрович?
Боже, он научился имени-отчеству. Не иначе, как аргумент с визой подействовал. Вот в этом они все. А если б я показал ему мою фотографию с Макроном? У меня нет такой фотографии, но сложно ли ее склепать на заказ!
—…я вот звонил тут по какому-то…
…пренебрежительно вглядывается в экран смартфона, листает стекло потным пальцем…
— ...что-то на 78-45. Заканчивается, не начинается. Не дозвонился. Оно вообще работает?
Средний род в его сознании неистребим.
А как же он догадался, что я это время буду на Патриарших, и прямо на углу у аптеки? А он сам потом тут же и объяснил. Охранник из «Уильямса» все сливает. Там где шеф-повар самоличный Уильям Ламберти, а охранник — просто охранник. Но еще информатор он. Четко докладывает, кто в какие часы мимо проходит. Чей информатор, неясно, да и не нужно. Если он тоже узнает меня в сиреневое ***, ему простится и самое мрачное информаторство. Ведь рано или поздно мне нальют в «Уильямсе» за так, за бесплатно, и это настоящее никогда не обернется прошлым.
И тогда я подробно рассказал Семену историю, как и почему отказался от телефона. По соображениям столь же принципиальным, сколь и концептуальным.
Это было вымолвлено с усилием, словно попытка сдвинуть учтивым коленом пещерный рихтеровский «Стейнвей». Он привык называть нас по фамилиям, как советский учитель начальной школы.
— У вас есть виза?
Виза шенгенская у меня, как ни смешно, есть. Пятилетняя, а кончается года через два. Вы не поверите, но было так. В 2015-м, на 14 июля, меня пригласили на прием. Французское посольство. Почему пригласили — никто не знает. Зато все понимают. Ну, *** узнаваемое. Плюс: я был категорически против аннексии Крыма. Вот просто насмерть. Призывал ударить Шестым флотом США по нашему черноморскому. Ну, не совсем нашему, но все-таки, как-никак, черноморскому. Потом, правда, от призыва отрекся, но французы за тем не уследили. Они любили меня по прежней памяти Шестого флота.
Я почти уже нажрался сухим шампанским, когда заговорила со мной атташе по культуре. Атташе по культуре обычно работают разведчики. Не главные, а собирающие фактуру по мелочи. Типа кто с кем спит, а кто ходит на свингерские занятия. (Они так называются? Или правильно «вечеринки»?) То была приземистая парижская баба. С белыми непрокрашенными волосами. Дешевой бижутерией и дорогой сумкой. Хотя сумка могла быть и липовая китайская, шпионы это себе позволяют. Они вообще очень свободные люди, почти на грани мышления.
— Вы же приедете, дорогой Станислав, выступать к нам в Фонд Маршала Петэна?
— Разумеется, герцогиня. Но как же без визы к вам попасть? Визы-то нет у меня.
— Присылайте на днях, не позже, чем через неделю, а то все уйдут в отпуск до сентября, анкету, заявление и паспорт. Консульский отдел все очень быстро вам выдаст.
— А когда заседание в Фонде?
— 14 декабря. Прямо в Вердене. Очень на вас рассчитываем.
— О, маркиза… и всякая прочая ***.
Так я и получил визу. А в Верден, естественно, не поперся. То ли запил, то ли они больше не дозвонились. Точней не упомню.
Но сейчас-то я сидел, весь в визах и мечтах, перед лицом Семена. Который ни разу в жизни не был евреем, несмотря на вызывающее оторопь имя. Он точно славянин, хотя и под неострым кавказским соусом. Нынче так делают, и нередко. И только одна мысль пронзила меня в тот момент, как бронебойный шампур — маринованную баранину. А что, если меня не выпустят из России? За телефонный долг в 21 тыс. руб.? Я слышал, такое нынче бывает, везде и напропалую. Но об этом я подумаю, когда человек-204 передаст всю сумму. А то у меня мозги не резиновые.
— Видите ли, Семен, я не сравниваю себя с великими. С такими, как Дмитрий Евгеньевич, скажем. Но визы мне легко дают. Я же не зависим от российской власти. И на Западе меня ценят. Во всем свои преимущества.
Лицо незнакомца задвигалось сосудами по вертикали. Неясно было, хочет он заплакать или банально дергается.
— А какой у Вас телефон, Станислав Александрович?
Боже, он научился имени-отчеству. Не иначе, как аргумент с визой подействовал. Вот в этом они все. А если б я показал ему мою фотографию с Макроном? У меня нет такой фотографии, но сложно ли ее склепать на заказ!
—…я вот звонил тут по какому-то…
…пренебрежительно вглядывается в экран смартфона, листает стекло потным пальцем…
— ...что-то на 78-45. Заканчивается, не начинается. Не дозвонился. Оно вообще работает?
Средний род в его сознании неистребим.
А как же он догадался, что я это время буду на Патриарших, и прямо на углу у аптеки? А он сам потом тут же и объяснил. Охранник из «Уильямса» все сливает. Там где шеф-повар самоличный Уильям Ламберти, а охранник — просто охранник. Но еще информатор он. Четко докладывает, кто в какие часы мимо проходит. Чей информатор, неясно, да и не нужно. Если он тоже узнает меня в сиреневое ***, ему простится и самое мрачное информаторство. Ведь рано или поздно мне нальют в «Уильямсе» за так, за бесплатно, и это настоящее никогда не обернется прошлым.
И тогда я подробно рассказал Семену историю, как и почему отказался от телефона. По соображениям столь же принципиальным, сколь и концептуальным.
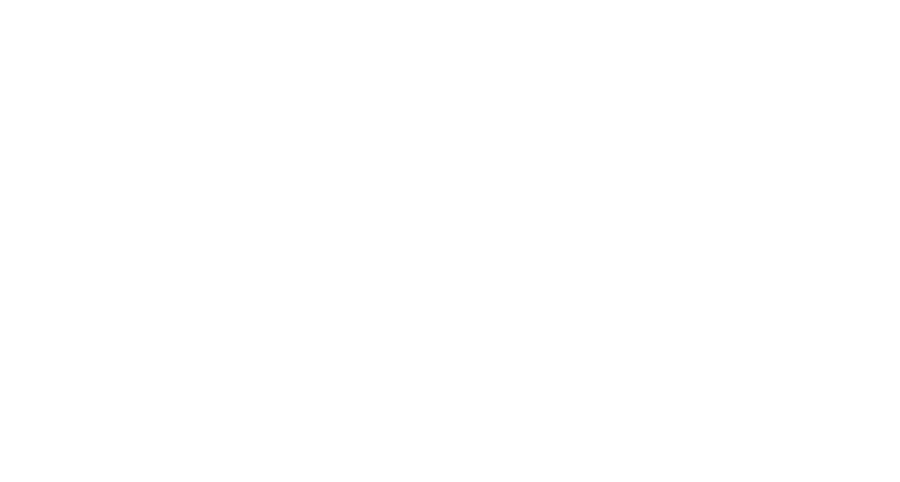
— Белковский.
Это было вымолвлено с усилием, словно попытка сдвинуть учтивым коленом пещерный рихтеровский «Стейнвей». Он привык называть нас по фамилиям, как советский учитель начальной школы.
— У вас есть виза?
Виза шенгенская у меня, как ни смешно, есть. Пятилетняя, а кончается года через два. Вы не поверите, но было так. В 2015-м, на 14 июля, меня пригласили на прием. Французское посольство. Почему пригласили — никто не знает. Зато все понимают. Ну, *** узнаваемое. Плюс: я был категорически против аннексии Крыма. Вот просто насмерть. Призывал ударить Шестым флотом США по нашему черноморскому. Ну, не совсем нашему, но все-таки, как-никак, черноморскому. Потом, правда, от призыва отрекся, но французы за тем не уследили. Они любили меня по прежней памяти Шестого флота.
Я почти уже нажрался сухим шампанским, когда заговорила со мной атташе по культуре. Атташе по культуре обычно работают разведчики. Не главные, а собирающие фактуру по мелочи. Типа кто с кем спит, а кто ходит на свингерские занятия. (Они так называются? Или правильно «вечеринки»?) То была приземистая парижская баба. С белыми непрокрашенными волосами. Дешевой бижутерией и дорогой сумкой. Хотя сумка могла быть и липовая китайская, шпионы это себе позволяют. Они вообще очень свободные люди, почти на грани мышления.
— Вы же приедете, дорогой Станислав, выступать к нам в Фонд Маршала Петэна?
— Разумеется, герцогиня. Но как же без визы к вам попасть? Визы-то нет у меня.
— Присылайте на днях, не позже, чем через неделю, а то все уйдут в отпуск до сентября, анкету, заявление и паспорт. Консульский отдел все очень быстро вам выдаст.
— А когда заседание в Фонде?
— 14 декабря. Прямо в Вердене. Очень на вас рассчитываем.
— О, маркиза… и всякая прочая ***.
Так я и получил визу. А в Верден, естественно, не поперся. То ли запил, то ли они больше не дозвонились. Точней не упомню.
Но сейчас-то я сидел, весь в визах и мечтах, перед лицом Семена. Который ни разу в жизни не был евреем, несмотря на вызывающее оторопь имя. Он точно славянин, хотя и под неострым кавказским соусом. Нынче так делают, и нередко. И только одна мысль пронзила меня в тот момент, как бронебойный шампур — маринованную баранину. А что, если меня не выпустят из России? За телефонный долг в 21 тыс. руб.? Я слышал, такое нынче бывает, везде и напропалую. Но об этом я подумаю, когда человек-204 передаст всю сумму. А то у меня мозги не резиновые.
— Видите ли, Семен, я не сравниваю себя с великими. С такими, как Дмитрий Евгеньевич, скажем. Но визы мне легко дают. Я же не зависим от российской власти. И на Западе меня ценят. Во всем свои преимущества.
Лицо незнакомца задвигалось сосудами по вертикали. Неясно было, хочет он заплакать или банально дергается.
— А какой у Вас телефон, Станислав Александрович?
Боже, он научился имени-отчеству. Не иначе, как аргумент с визой подействовал. Вот в этом они все. А если б я показал ему мою фотографию с Макроном? У меня нет такой фотографии, но сложно ли ее склепать на заказ!
—…я вот звонил тут по какому-то…
…пренебрежительно вглядывается в экран смартфона, листает стекло потным пальцем…
— ...что-то на 78-45. Заканчивается, не начинается. Не дозвонился. Оно вообще работает?
Средний род в его сознании неистребим.
А как же он догадался, что я это время буду на Патриарших, и прямо на углу у аптеки? А он сам потом тут же и объяснил. Охранник из «Уильямса» все сливает. Там где шеф-повар самоличный Уильям Ламберти, а охранник — просто охранник. Но еще информатор он. Четко докладывает, кто в какие часы мимо проходит. Чей информатор, неясно, да и не нужно. Если он тоже узнает меня в сиреневое ***, ему простится и самое мрачное информаторство. Ведь рано или поздно мне нальют в «Уильямсе» за так, за бесплатно, и это настоящее никогда не обернется прошлым.
И тогда я подробно рассказал Семену историю, как и почему отказался от телефона. По соображениям столь же принципиальным, сколь и концептуальным.
Во-первых, дорогой Семен, — Дмитрию Евгеньевичу это тоже может быть интересно, — мы живем в новой коммуникативной реальности. Где телефон уже не имеет значения. Я решил доказать себе, что могу без него полностью обходиться. На протяженной жизнедистанции. И — тотальный успех. Одного интернета вполне достаточно.
Во-вторых, телефон — соблазн. Я перестал отвечать людям, которым не нужен и которые мне не нужны. И перестал звонить куда ни попадя. Я экономлю 28 часов общения в неделю. И ни одно важное дело не сорвалось. А неважные рассосались.
В-третьих, я умножил в мире моем тишину. Я не слышу ни звонков, ни вибраций, ни отрыжки от сообщений. А тишина усмиряет нервы. Сохраняет нейронные клетки. Упреждает тревожный сон.
Эксперимент длится два месяца — в ближайший вторник будет два месяца — и полностью оправдал себя.
Вот вы же меня нашли, безо всякого телефона. Здесь и возникла история про Уильямс-охранника, какую не повторим, ибо незачем.
И про 21 000 долга ничего не скажем. Это куда как лишнее для такого красивого вечера.
Двойной «Джеймисон» пошел хорошо. Он уже переходил из тонкого внешнего эпителия в соединительную жировую ткань.
— У вас же есть Фейсбук, Семен? В любой момент вы можете мне написать. Я проверяю мессенджер 7 раз в день, не меньше.
— Я этой хренотенью не пользуюсь.
Злится слегка, завидует новой коммуникативной реальности.
— Так что писать не буду. Сделаем по-другому. Завтра приходите сюда в 10 утра. Проснетесь?
Как же это я не проснусь? Я жаворонок. Как многие алкаши. Встаю в шесть-семь. Чтобы проверить гонконгские новости. Без них страшновато.
— Если проснетесь, Вас именно здесь, в зале «Вена», будет ждать девушка Марина. С деньгами. С командировочными. 500 евро плюс 100 евро на такси. 600 евро. (Ой, он сразу запомнил и, кажется, сделает! — С. Б.). Отдадите ей паспорт или копию. Для билетов. Согласуете с Мариной даты вылета, какие удобны нам и вам. Инструкцию Дмитрия Евгеньевича можете забрать сейчас. Хотя не надо. Посеете еще. Все будет лежать в запечатанном конверте. Больше вас не задерживаю, товарищ Белковский, расплачусь пока.
Вся обида Семена на Фейсбук и визу вылилась в последнем устном абзаце. Не всем же быть свободными от власти! — «товарищ», хе-хе.
И, на выход, самый неудобный вопрос:
— А где, кстати, будут ваши публикации?
Уничтожая колебание:
— Это Дмитрий Евгеньич хочет знать заранее.
— Где? Ну, например, в «Коммерсанте», — соврал я.
С какой стати «Коммерс» опубликует мою рецензию на Брейгеля?! Когда я не арт-критик не разу и вообще хрен с бугра. Ладно, потом разберемся. Когда я уже съезжу в Вену. Все равно Дмитрий Евгеньевич никуда не денется, будет ждать. Не потребует же он 600 евро и билеты назад? Он с Бувье-то миллиард никак не получит. А уж после соляной кислоты в арабском Константинополе…
— Хорошо, я передам.
И, после нутряного усилия:
— Я передам.
Кажется, Петра Великого это тоже волнует поверхностно.
Но нет, не так уж поверхностно.
Он вспоминает, что забыл какую-то начальственную инструкцию, и переполняется розовым напряжением.
— И да. Чуть не забыл. Фоток надо побольше. На фоне музея, в музее, с картинами. Чтоб было ясно, что вы там действительно были. С датами, временем. Это понятно?
— Фотографии?
Моя тупость перестала умилять гигантского незнакомца.
— Фотки, фотки. Блин, конечно. Побольше и в нормальном качестве. И к публикациям их приложить. Что вы типа все изучили как следует. Как надо.
Как мне их сделать без смартфона? И без телефона вообще? Придется просить окружающих. И я попрошу. Попрошу. Странно, что за столько времени я так и не овладел габитусом халявщика. Это от внутреннего аристократизма, не иначе.
И взаправду. Ведь для моих рецензий можно и не отправлять меня никуда. Тем более рискуя с пограничной задержкой из-за коммуникативного долга. А скормить мне весь бюджет акции прямо на месте. Но я не дам ему такую идею.
— Пятнадцать фотографий будут, Семен. Не волнуйтесь.
— Я и не волнуюсь. Тороплюсь просто. Тороплюсь. Скоро совещание. До скорого. Бывайте здоровы, Белковский.
Несмотря на эти детали вдогонку, я все же встал из-за венского стола довольный, как 70 гурий после визита праведника.
На выходе из «Марко Поло» белокурая девушка-консьерж, с мелкорезанной челкой из звездной картины Бэнкси, вдруг сказала мне:
— Здравствуйте!
О, Господи!
— Почему вдруг здравствовать, принцесса?
— Потому что мы с вами сегодня ни разу еще не здоровались.
Я вывалился в Спиридоньевский переулок, где уже пребывала полная ночь. И от нее есть одно только вещее снадобье — ночлег.
Это было вымолвлено с усилием, словно попытка сдвинуть учтивым коленом пещерный рихтеровский «Стейнвей». Он привык называть нас по фамилиям, как советский учитель начальной школы.
— У вас есть виза?
Виза шенгенская у меня, как ни смешно, есть. Пятилетняя, а кончается года через два. Вы не поверите, но было так. В 2015-м, на 14 июля, меня пригласили на прием. Французское посольство. Почему пригласили — никто не знает. Зато все понимают. Ну, *** узнаваемое. Плюс: я был категорически против аннексии Крыма. Вот просто насмерть. Призывал ударить Шестым флотом США по нашему черноморскому. Ну, не совсем нашему, но все-таки, как-никак, черноморскому. Потом, правда, от призыва отрекся, но французы за тем не уследили. Они любили меня по прежней памяти Шестого флота.
Я почти уже нажрался сухим шампанским, когда заговорила со мной атташе по культуре. Атташе по культуре обычно работают разведчики. Не главные, а собирающие фактуру по мелочи. Типа кто с кем спит, а кто ходит на свингерские занятия. (Они так называются? Или правильно «вечеринки»?) То была приземистая парижская баба. С белыми непрокрашенными волосами. Дешевой бижутерией и дорогой сумкой. Хотя сумка могла быть и липовая китайская, шпионы это себе позволяют. Они вообще очень свободные люди, почти на грани мышления.
— Вы же приедете, дорогой Станислав, выступать к нам в Фонд Маршала Петэна?
— Разумеется, герцогиня. Но как же без визы к вам попасть? Визы-то нет у меня.
— Присылайте на днях, не позже, чем через неделю, а то все уйдут в отпуск до сентября, анкету, заявление и паспорт. Консульский отдел все очень быстро вам выдаст.
— А когда заседание в Фонде?
— 14 декабря. Прямо в Вердене. Очень на вас рассчитываем.
— О, маркиза… и всякая прочая ***.
Так я и получил визу. А в Верден, естественно, не поперся. То ли запил, то ли они больше не дозвонились. Точней не упомню.
Но сейчас-то я сидел, весь в визах и мечтах, перед лицом Семена. Который ни разу в жизни не был евреем, несмотря на вызывающее оторопь имя. Он точно славянин, хотя и под неострым кавказским соусом. Нынче так делают, и нередко. И только одна мысль пронзила меня в тот момент, как бронебойный шампур — маринованную баранину. А что, если меня не выпустят из России? За телефонный долг в 21 тыс. руб.? Я слышал, такое нынче бывает, везде и напропалую. Но об этом я подумаю, когда человек-204 передаст всю сумму. А то у меня мозги не резиновые.
— Видите ли, Семен, я не сравниваю себя с великими. С такими, как Дмитрий Евгеньевич, скажем. Но визы мне легко дают. Я же не зависим от российской власти. И на Западе меня ценят. Во всем свои преимущества.
Лицо незнакомца задвигалось сосудами по вертикали. Неясно было, хочет он заплакать или банально дергается.
— А какой у Вас телефон, Станислав Александрович?
Боже, он научился имени-отчеству. Не иначе, как аргумент с визой подействовал. Вот в этом они все. А если б я показал ему мою фотографию с Макроном? У меня нет такой фотографии, но сложно ли ее склепать на заказ!
—…я вот звонил тут по какому-то…
…пренебрежительно вглядывается в экран смартфона, листает стекло потным пальцем…
— ...что-то на 78-45. Заканчивается, не начинается. Не дозвонился. Оно вообще работает?
Средний род в его сознании неистребим.
А как же он догадался, что я это время буду на Патриарших, и прямо на углу у аптеки? А он сам потом тут же и объяснил. Охранник из «Уильямса» все сливает. Там где шеф-повар самоличный Уильям Ламберти, а охранник — просто охранник. Но еще информатор он. Четко докладывает, кто в какие часы мимо проходит. Чей информатор, неясно, да и не нужно. Если он тоже узнает меня в сиреневое ***, ему простится и самое мрачное информаторство. Ведь рано или поздно мне нальют в «Уильямсе» за так, за бесплатно, и это настоящее никогда не обернется прошлым.
И тогда я подробно рассказал Семену историю, как и почему отказался от телефона. По соображениям столь же принципиальным, сколь и концептуальным.
Во-первых, дорогой Семен, — Дмитрию Евгеньевичу это тоже может быть интересно, — мы живем в новой коммуникативной реальности. Где телефон уже не имеет значения. Я решил доказать себе, что могу без него полностью обходиться. На протяженной жизнедистанции. И — тотальный успех. Одного интернета вполне достаточно.
Во-вторых, телефон — соблазн. Я перестал отвечать людям, которым не нужен и которые мне не нужны. И перестал звонить куда ни попадя. Я экономлю 28 часов общения в неделю. И ни одно важное дело не сорвалось. А неважные рассосались.
В-третьих, я умножил в мире моем тишину. Я не слышу ни звонков, ни вибраций, ни отрыжки от сообщений. А тишина усмиряет нервы. Сохраняет нейронные клетки. Упреждает тревожный сон.
Эксперимент длится два месяца — в ближайший вторник будет два месяца — и полностью оправдал себя.
Вот вы же меня нашли, безо всякого телефона. Здесь и возникла история про Уильямс-охранника, какую не повторим, ибо незачем.
И про 21 000 долга ничего не скажем. Это куда как лишнее для такого красивого вечера.
Двойной «Джеймисон» пошел хорошо. Он уже переходил из тонкого внешнего эпителия в соединительную жировую ткань.
— У вас же есть Фейсбук, Семен? В любой момент вы можете мне написать. Я проверяю мессенджер 7 раз в день, не меньше.
— Я этой хренотенью не пользуюсь.
Злится слегка, завидует новой коммуникативной реальности.
— Так что писать не буду. Сделаем по-другому. Завтра приходите сюда в 10 утра. Проснетесь?
Как же это я не проснусь? Я жаворонок. Как многие алкаши. Встаю в шесть-семь. Чтобы проверить гонконгские новости. Без них страшновато.
— Если проснетесь, Вас именно здесь, в зале «Вена», будет ждать девушка Марина. С деньгами. С командировочными. 500 евро плюс 100 евро на такси. 600 евро. (Ой, он сразу запомнил и, кажется, сделает! — С. Б.). Отдадите ей паспорт или копию. Для билетов. Согласуете с Мариной даты вылета, какие удобны нам и вам. Инструкцию Дмитрия Евгеньевича можете забрать сейчас. Хотя не надо. Посеете еще. Все будет лежать в запечатанном конверте. Больше вас не задерживаю, товарищ Белковский, расплачусь пока.
Вся обида Семена на Фейсбук и визу вылилась в последнем устном абзаце. Не всем же быть свободными от власти! — «товарищ», хе-хе.
И, на выход, самый неудобный вопрос:
— А где, кстати, будут ваши публикации?
Уничтожая колебание:
— Это Дмитрий Евгеньич хочет знать заранее.
— Где? Ну, например, в «Коммерсанте», — соврал я.
С какой стати «Коммерс» опубликует мою рецензию на Брейгеля?! Когда я не арт-критик не разу и вообще хрен с бугра. Ладно, потом разберемся. Когда я уже съезжу в Вену. Все равно Дмитрий Евгеньевич никуда не денется, будет ждать. Не потребует же он 600 евро и билеты назад? Он с Бувье-то миллиард никак не получит. А уж после соляной кислоты в арабском Константинополе…
— Хорошо, я передам.
И, после нутряного усилия:
— Я передам.
Кажется, Петра Великого это тоже волнует поверхностно.
Но нет, не так уж поверхностно.
Он вспоминает, что забыл какую-то начальственную инструкцию, и переполняется розовым напряжением.
— И да. Чуть не забыл. Фоток надо побольше. На фоне музея, в музее, с картинами. Чтоб было ясно, что вы там действительно были. С датами, временем. Это понятно?
— Фотографии?
Моя тупость перестала умилять гигантского незнакомца.
— Фотки, фотки. Блин, конечно. Побольше и в нормальном качестве. И к публикациям их приложить. Что вы типа все изучили как следует. Как надо.
Как мне их сделать без смартфона? И без телефона вообще? Придется просить окружающих. И я попрошу. Попрошу. Странно, что за столько времени я так и не овладел габитусом халявщика. Это от внутреннего аристократизма, не иначе.
И взаправду. Ведь для моих рецензий можно и не отправлять меня никуда. Тем более рискуя с пограничной задержкой из-за коммуникативного долга. А скормить мне весь бюджет акции прямо на месте. Но я не дам ему такую идею.
— Пятнадцать фотографий будут, Семен. Не волнуйтесь.
— Я и не волнуюсь. Тороплюсь просто. Тороплюсь. Скоро совещание. До скорого. Бывайте здоровы, Белковский.
Несмотря на эти детали вдогонку, я все же встал из-за венского стола довольный, как 70 гурий после визита праведника.
На выходе из «Марко Поло» белокурая девушка-консьерж, с мелкорезанной челкой из звездной картины Бэнкси, вдруг сказала мне:
— Здравствуйте!
О, Господи!
— Почему вдруг здравствовать, принцесса?
— Потому что мы с вами сегодня ни разу еще не здоровались.
Я вывалился в Спиридоньевский переулок, где уже пребывала полная ночь. И от нее есть одно только вещее снадобье — ночлег.
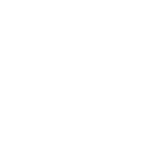
С яхтой Д. Е. Рыболовлева, впрочем, я довольно быстро разобрался.
Их, собственно, две. Называются одинаково — «Анна». Одна — постарше, 67 метров. Уже выставлена на продажу за 65 млн евро. Другая — подлиньше, 110 метров. Но еще строится. Уже на самых стапелях (это ведь не то же самое, что на сносях), но пока еще нет.
Стало быть, раз новая «Анна» до сих пор не ходила по водам, то полотна Брейгеля-старшего я мог видеть только на той, короткой. Которая еще не продана. Но скоро уйдет с молотка, и тогда уже точно никто ничего не проверит.
Надо же, кстати, — яхта нынче стоит дешевле картины. Дожили мы до триумфа искусств. Но если б знали, какого именно!
И когда меня будут спрашивать, а как вообще выглядит яхта г-на Рыболовлева, я должен ответить нечто вроде:
— Как-как? Вы разве там не были? С большой претензией, но без викторианского блеска. (Почему викторианского? Хрен его знает. — С. Б.)
И, чтобы сделать вид, что я на многих олигархических лодках (они так яхты фамильярно называют. — С. Б.) бывал и ничем тут меня не проймешь, немного поморщусь, словно перед радикальным носовым чиханием. Сниму очки, достану химическую салфетку для их протирки и начну истово протирать. В тот момент добавочные вопросы ко мне станут неуместны.
Другое дело — где взять химические салфетки. Я их давно все растерял. Да уж понятно где. Зайти в салон оптики на Тверской, напротив «Большого Марриотта». Сделать вид, что выбираю оправы. Минут двадцать повыбирать. Одну таки обозначить для грядущей покупки. Пообещать вот-вот вернуться. Салфетку, она же тряпочка, попросить на миг и захватить с собой. До заветного возвращения. Тряпочку лучше брать грозно-бордовую, она завсегда убедительней.
Правда, при протирке очков могут выдать нагие глаза. Потому надо опустить голову радикально вниз. И, чтобы глаза ни в чем не смогли отразиться, зажмурить их плотно, как принято делать во время поедания доктором Лектором очередной жертвы. Чтобы не был так страшен регулярный киносеанс.
И тогда все поверят, что я бывал на разных яхтах, а на одной из них видел две лучших картины Питера Брейгеля. Не попавших на венскую выставку в силу неестественных причин.
Их, собственно, две. Называются одинаково — «Анна». Одна — постарше, 67 метров. Уже выставлена на продажу за 65 млн евро. Другая — подлиньше, 110 метров. Но еще строится. Уже на самых стапелях (это ведь не то же самое, что на сносях), но пока еще нет.
Стало быть, раз новая «Анна» до сих пор не ходила по водам, то полотна Брейгеля-старшего я мог видеть только на той, короткой. Которая еще не продана. Но скоро уйдет с молотка, и тогда уже точно никто ничего не проверит.
Надо же, кстати, — яхта нынче стоит дешевле картины. Дожили мы до триумфа искусств. Но если б знали, какого именно!
И когда меня будут спрашивать, а как вообще выглядит яхта г-на Рыболовлева, я должен ответить нечто вроде:
— Как-как? Вы разве там не были? С большой претензией, но без викторианского блеска. (Почему викторианского? Хрен его знает. — С. Б.)
И, чтобы сделать вид, что я на многих олигархических лодках (они так яхты фамильярно называют. — С. Б.) бывал и ничем тут меня не проймешь, немного поморщусь, словно перед радикальным носовым чиханием. Сниму очки, достану химическую салфетку для их протирки и начну истово протирать. В тот момент добавочные вопросы ко мне станут неуместны.
Другое дело — где взять химические салфетки. Я их давно все растерял. Да уж понятно где. Зайти в салон оптики на Тверской, напротив «Большого Марриотта». Сделать вид, что выбираю оправы. Минут двадцать повыбирать. Одну таки обозначить для грядущей покупки. Пообещать вот-вот вернуться. Салфетку, она же тряпочка, попросить на миг и захватить с собой. До заветного возвращения. Тряпочку лучше брать грозно-бордовую, она завсегда убедительней.
Правда, при протирке очков могут выдать нагие глаза. Потому надо опустить голову радикально вниз. И, чтобы глаза ни в чем не смогли отразиться, зажмурить их плотно, как принято делать во время поедания доктором Лектором очередной жертвы. Чтобы не был так страшен регулярный киносеанс.
И тогда все поверят, что я бывал на разных яхтах, а на одной из них видел две лучших картины Питера Брейгеля. Не попавших на венскую выставку в силу неестественных причин.
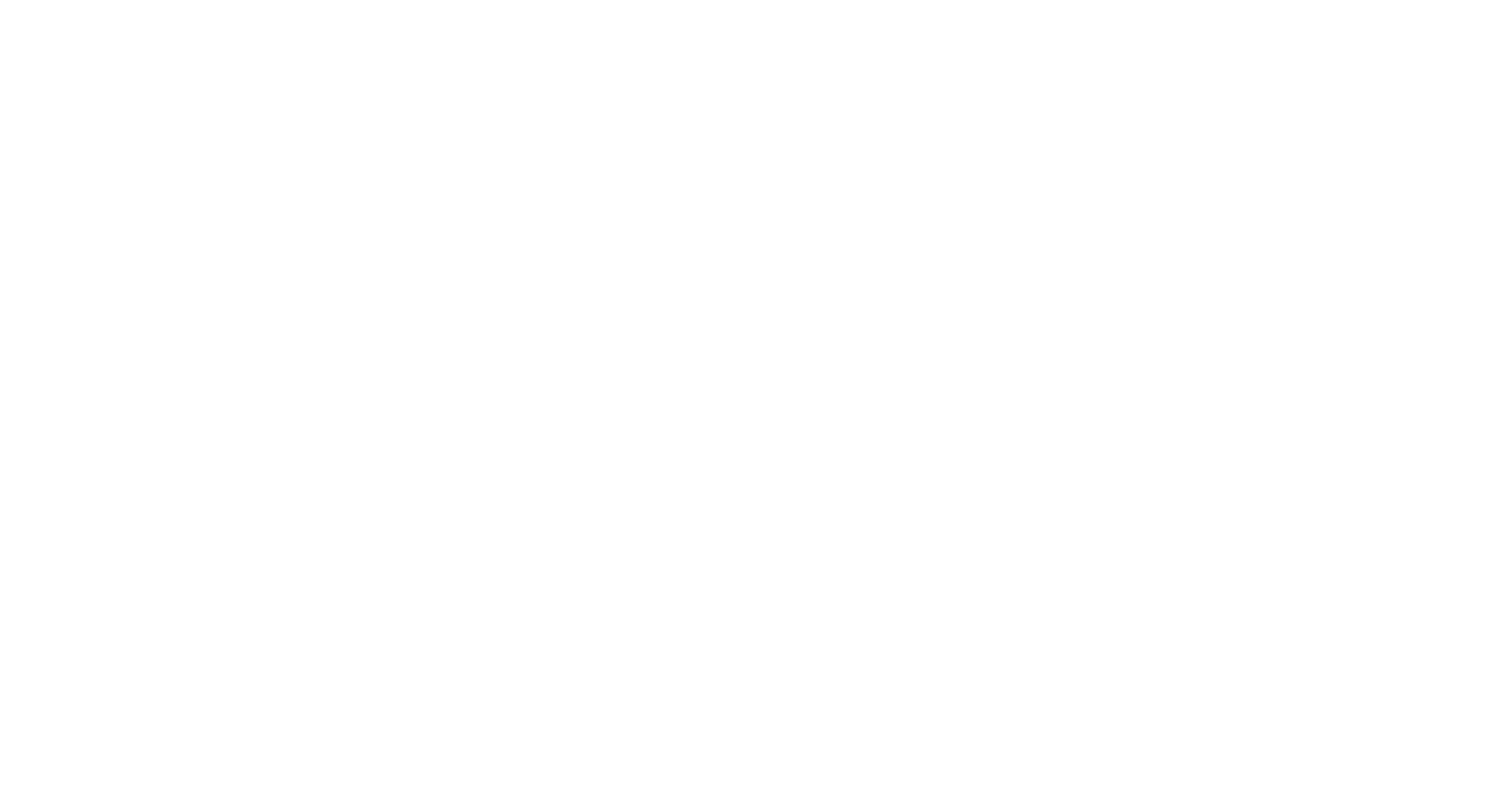
«Джеймисон», особенно со льдом, характерен следующим: после него явственно тянет на «Праздничную». Я решил не зависать в патриаршей ночи, а прорываться домой. Где есть, хоть и неоплаченный за семь месяцев, но все же электрический свет.
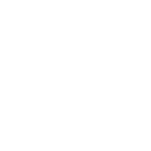
Какая гадость!
Вы же догадались, что случилось наутро. Вы, скорей всего, заранее догадались. Как говорил Хемингуэй, если читатель точно знает, что будет, об этом можно уже и не писать.
Я признавал, что, как алкаш, притворяюсь жаворонком. Просыпаюсь в шесть-семь пополуночи.
В семь шестнадцать (вот ведь, ***, не в четырнадцать и не в девятнадцать) сообщает портал «Сноб» со ссылкой на Nice Matin: русский магнат-коллекционер Дмитрий Рыболовлев задержан в Марокко. Тьфу, черт, в Монако, а не в Марокко. Жалко, что не в Марокко. Туда магнаты часто ездят коллекционировать сладких мальчиков из секты борцов вольного стиля. Так было бы пикантно. Но. Моему Дмитрию Евгеньевичу, отважному брейгеленосцу, предъявлено обвинение в торговле влиянием и подкупе ментов. Он купил всех семерых ментов княжества. Семеро бунтуют, но уже поздно. Проведены обыски на яхте титана (о, моей 67-метровой «Анне», с двумя полотнами! или новой, длинной? с бодуна никак и не разберешь), и в его резиденции Belle Epoque, и даже в личном самолете A319, что стоит в редком порыве отдохновения на аэродроме Nice Cote d'Azur.
Вы же догадались, что случилось наутро. Вы, скорей всего, заранее догадались. Как говорил Хемингуэй, если читатель точно знает, что будет, об этом можно уже и не писать.
Я признавал, что, как алкаш, притворяюсь жаворонком. Просыпаюсь в шесть-семь пополуночи.
В семь шестнадцать (вот ведь, ***, не в четырнадцать и не в девятнадцать) сообщает портал «Сноб» со ссылкой на Nice Matin: русский магнат-коллекционер Дмитрий Рыболовлев задержан в Марокко. Тьфу, черт, в Монако, а не в Марокко. Жалко, что не в Марокко. Туда магнаты часто ездят коллекционировать сладких мальчиков из секты борцов вольного стиля. Так было бы пикантно. Но. Моему Дмитрию Евгеньевичу, отважному брейгеленосцу, предъявлено обвинение в торговле влиянием и подкупе ментов. Он купил всех семерых ментов княжества. Семеро бунтуют, но уже поздно. Проведены обыски на яхте титана (о, моей 67-метровой «Анне», с двумя полотнами! или новой, длинной? с бодуна никак и не разберешь), и в его резиденции Belle Epoque, и даже в личном самолете A319, что стоит в редком порыве отдохновения на аэродроме Nice Cote d'Azur.
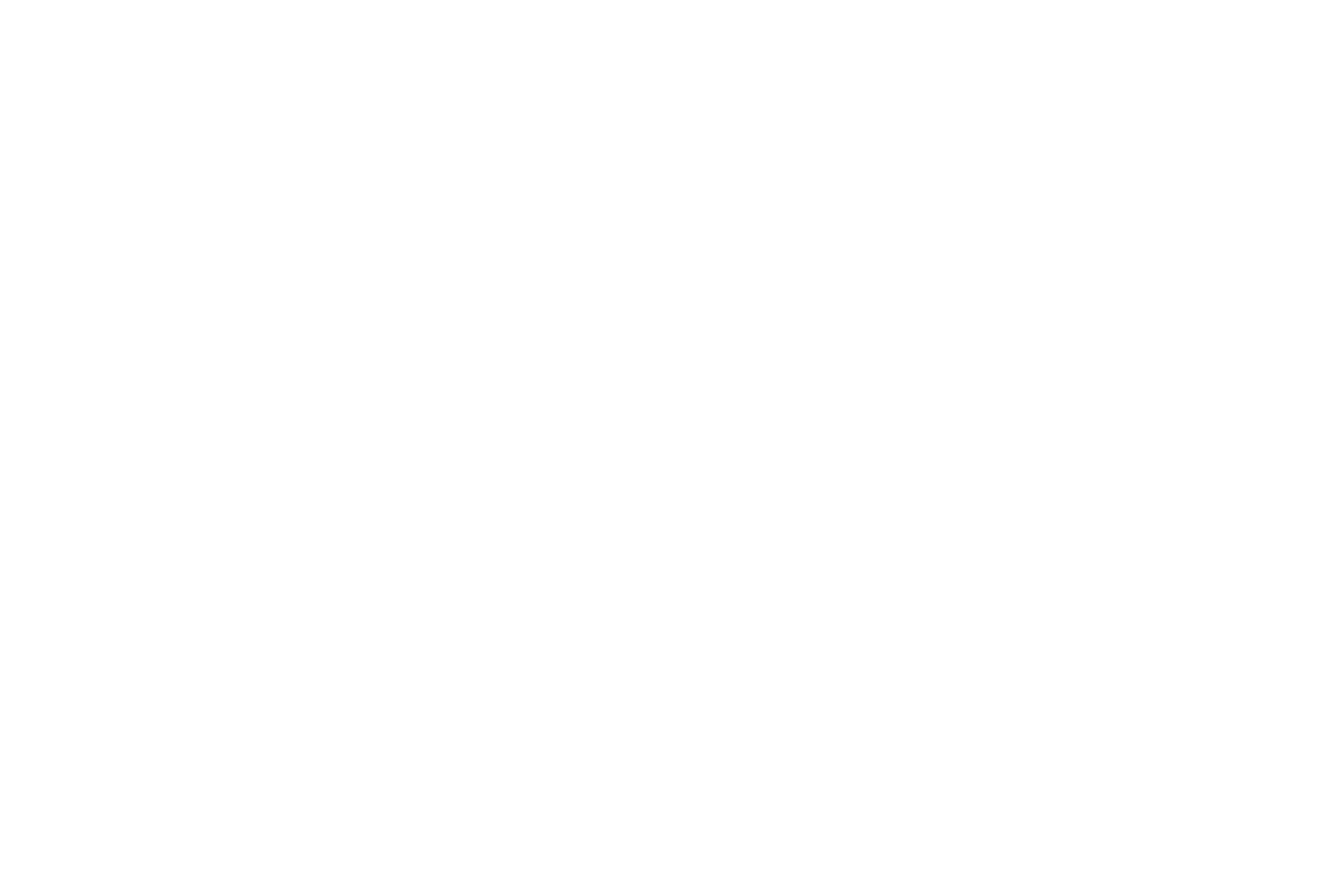
Дальнейшая судьба миллиардера пока неясна.
А что с моей-то судьбой, не миллиардера, а гораздо круче — нищего поддающего творца? Она-то ясна? Дадут мне бабло на поездку в Вену? Или все накрылось по принципу еврейского счастья?!
К десяти ноль ноль пополуночи я все же пришел в «Марко Поло». Но шествовать до комнаты «Вена» не было тщетной необходимости. Консьержка с челкой из Бэнкси остановила меня благородным жестом. (Она что, работает круглосуточно? Бедная. Жертва потогонной системы.) Сказала ли она вновь «Здравствуйте!», я не упомню. Но, вскрывая протянутый ею субтильный конверт, никогда не знавший плотности денег, я уже позеленел от пят до мочек ушей. Марина не придет. И тряпочка для очков Белковскому, кажется, не понадобится.
«Наш проект пока откладывается. До встречи! С.»
Напечатано на машинке. То есть — на компьютерном принтере. И ни одной ошибки. Каких можно было б ожидать от С., пиши он это сам.
— Спасибо! — это я.
— За что спасибо? — прихихикнула Бэнкси-герл.
— Мы сегодня еще ни разу не говорили друг другу спасибо.
В Спиридоньевском переулке официально минус три, но как будто минус пятнадцать. Солнце. Холодное русское Солнце, звезда нашей безнадеги. Дома здесь поставлены так, что не видно целиком ни одного куска солнцезащитного неба. Я пытаюсь представить себе это небо в целости и сохранности, похожим на Венскую выставку, но едва ли могу. Мне говорили, так все устроено и в тюремном дворе для прогулок. Я там не был. Моя биография недостаточно героична. Но разве не вся земля русская — гигантский двор для прогулок зэков? Ощути себя зэком — и гуляй не хочу.
Если б небо здесь было желтым, как предупреждал меня в детстве бесплотный отшельник из Наньхуа, мы не заметили бы разницы.
Я пошел.
Сдаваться нельзя.
Я обязан попасть в Музеум до 13 января. Старого Нового года, по нашему стилю.
Это случится.
Увидите.
Иначе я не писал бы этих воспоминаний. О чем писать, если ничего не случилось?
А что с моей-то судьбой, не миллиардера, а гораздо круче — нищего поддающего творца? Она-то ясна? Дадут мне бабло на поездку в Вену? Или все накрылось по принципу еврейского счастья?!
К десяти ноль ноль пополуночи я все же пришел в «Марко Поло». Но шествовать до комнаты «Вена» не было тщетной необходимости. Консьержка с челкой из Бэнкси остановила меня благородным жестом. (Она что, работает круглосуточно? Бедная. Жертва потогонной системы.) Сказала ли она вновь «Здравствуйте!», я не упомню. Но, вскрывая протянутый ею субтильный конверт, никогда не знавший плотности денег, я уже позеленел от пят до мочек ушей. Марина не придет. И тряпочка для очков Белковскому, кажется, не понадобится.
«Наш проект пока откладывается. До встречи! С.»
Напечатано на машинке. То есть — на компьютерном принтере. И ни одной ошибки. Каких можно было б ожидать от С., пиши он это сам.
— Спасибо! — это я.
— За что спасибо? — прихихикнула Бэнкси-герл.
— Мы сегодня еще ни разу не говорили друг другу спасибо.
В Спиридоньевском переулке официально минус три, но как будто минус пятнадцать. Солнце. Холодное русское Солнце, звезда нашей безнадеги. Дома здесь поставлены так, что не видно целиком ни одного куска солнцезащитного неба. Я пытаюсь представить себе это небо в целости и сохранности, похожим на Венскую выставку, но едва ли могу. Мне говорили, так все устроено и в тюремном дворе для прогулок. Я там не был. Моя биография недостаточно героична. Но разве не вся земля русская — гигантский двор для прогулок зэков? Ощути себя зэком — и гуляй не хочу.
Если б небо здесь было желтым, как предупреждал меня в детстве бесплотный отшельник из Наньхуа, мы не заметили бы разницы.
Я пошел.
Сдаваться нельзя.
Я обязан попасть в Музеум до 13 января. Старого Нового года, по нашему стилю.
Это случится.
Увидите.
Иначе я не писал бы этих воспоминаний. О чем писать, если ничего не случилось?
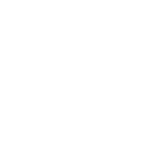
Я всегда любил Мушега.
Ну, не то чтобы совсем так уж прямо любил, но нравился он мне точно.
За три вещи. Вы скажете сейчас, что любовь не бывает обусловлена вещами. О, да, да! Но если ненастоящая любовь, то может. А моя — только ненастоящая. Условная любовь, никак не безусловная. Я творец, и с мочек ушей до горизонтов пят посвящен творчеству, не любви. Нельзя посвятиться любви и творчеству одновременно. Любой Папа Римский вам объяснит.
Ну, не то чтобы совсем так уж прямо любил, но нравился он мне точно.
За три вещи. Вы скажете сейчас, что любовь не бывает обусловлена вещами. О, да, да! Но если ненастоящая любовь, то может. А моя — только ненастоящая. Условная любовь, никак не безусловная. Я творец, и с мочек ушей до горизонтов пят посвящен творчеству, не любви. Нельзя посвятиться любви и творчеству одновременно. Любой Папа Римский вам объяснит.
Итак, три вещи.
- Мушег очень толстый. У него огромный живот. Вдвое больше даже моего. Он свисает через ремень и перекатывается на ходу. Оно и понятно. Вот я вешу 106 кг. А Мушег — 128, он сам говорил. А росточком он даже меньше моего. У меня 170, а у него? Притом Мушег реально хорошо одевается. Оставляя мне надежду. Если у меня когда-то снова появятся деньги, я смогу найти платье и на свою диковатую фигуру.
- У Мушега предельно и беспредельно голубые глаза. Цвета Сальвадора Дали. Ну, не самого Дали, а задника за минуту до пробуждения, когда шмель жужжит над плодом граната. Я еще видел такого цвета воду на Кипре, на пляжах мелкой гальки, у отеля «Анасса», около турецкого Севера. Говорят, на Мальдивах (также известных как Мальдивские острова) такое море всегда. Но вряд ли я смогу в этом убедиться. А если убедиться не можешь — говори максимально уверенно, тебя поймут.
- Мушег, когда встречает меня у кафе «Маргарита» на углу Малой Бронной и Большого Козихинского (хотя Козихинский гораздо мельче Бронной, он Большой, а она Малая, в чем и весь сексизм нашего бытия), сразу наливает водки. Не предлагает, не спрашивает — наливает. Я вообще не люблю риторических вопросов — «будешь, не будешь». Кто умеет не задавать риторических вопросов, в том вся нежность человечества.
К тому ж давно вывел я этаноловое число Белковского. Это 0,6. Секунды. Если за 0,6 сек. на вопрос «будешь?», ваш собеседник не отвечает «нет», значит, единственно правильный ответ — «да». А все остальное — жалкие колебания, отговорки, отмазки. Вроде «за рулем», «завтра рано на работу», «дети дома чумазые ждут». Главное в такой ситуации — уже наливать, а не продолжать предлагать. Ни за что не превращаться в заложника встречной психической неустойчивости.
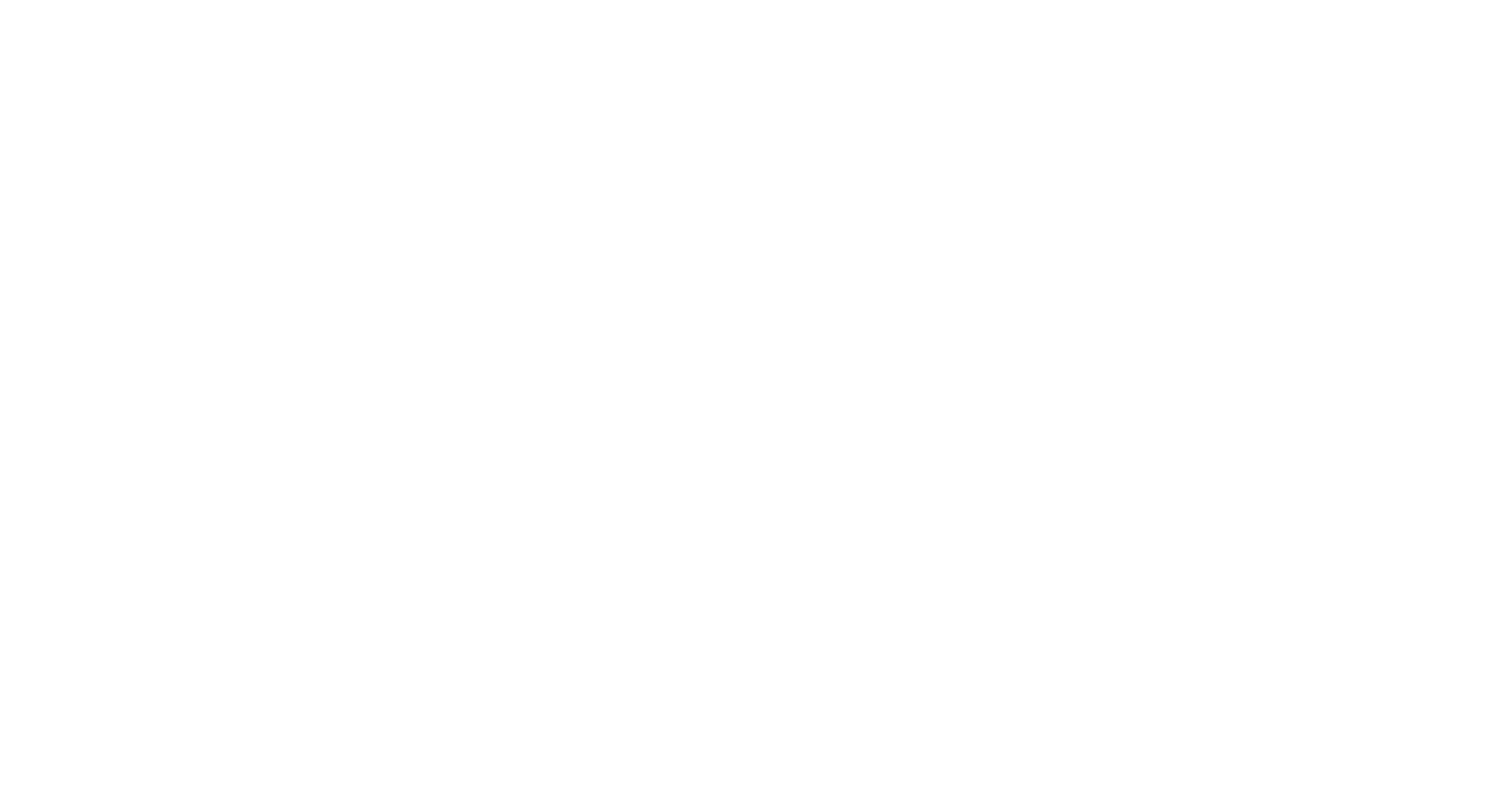
В десять часов семь минут я вышел из «Марко Поло» со всем его дурацким «Пресня», выкинув в урну кратчайшую записку от высокомерного троглодита-204. Отменили зачем-то мой проект. За ночь. А с чего? Что, если Дмитрий Евгеньевич вдруг в спецприемнике монегасков, уже больше не надо пиарить его яхтенных Брейгелей? На один-единственный туда-сюда билет и затхлый «Захер» копья не найдется? Говно это красно-фиолетовое, в просторечии именуемое наличными, в сейфе не лежит? Марина стала очень занята? Ну хорошо, даже если проект отменяется. Вами же выдвинутый проект, обратите внимание. Я к вам не обращался, ничего не предлагал, не клянчил и не выпрашивал. Я вообще не умею обращаться, наипаче же — клянчить и выпрашивать. Можно же вежливо извиниться, выдать компенсацию евро в двести хотя бы? Чтобы хватило мне на зимние ботинки плюс еще пятьдесят оставалось: теплую обувь, в первый раз за три протянутых года, обмыть.
Вот за это и страдают русские магнаты-коллекционеры с островами, яхтами и юношами из Марокко. Коррумпировал-коррумпировал ментов-монегасков, да не выкоррумпировал. Наверняка, забыл еще про двух-трех, самых тайных и стремных. Пожадничал. Они-то его и схлопнули. Или обещал дать самолет свой, А319, любовнице князя Альбера. Чтобы в Вену ей слетать на выставку спокойно, без соседства излишнего и хабального. А потом подумал: не жирно ли будет. А князь Альбер, он хоть и гей, то есть натуральный пидорас, человек верный, жестокий и злобносуетный. Любовниц своих в беде не бросает. Чтоб и они его не бросили и не рассказали в СМИ, кого он на самом деле в жопу ***. Я вот читал в журнале «7 дней» большую историю про княжеский роман с нашей фигуристкой Мариной Анисиной. Ну ясно же там, с третьего абзаца ясно, что любовь у них фиктивная, как вексель Миссисипской компании. Что всякому вельможному пидорасу требуется операция прикрытия, и позвончее. Потому и нельзя кидать красавиц, прикрывающих бипедального князя, ой как нельзя.
Вон Его Высочество и вызверились на коллекционера. Пожалел мелкие деньги, сука Евгеньич, теперь потратится на большие. Жлобы они все. Жлобы и ублюдки. Никаких других слов про них сказать не могу. И по жлобству и по ублюдству их — воздастся им. Вот увидите.
А что они сотворили с футбольным клубом «Монако»? Вчерашний чемпион, боровшийся на равных с «ПСЖ» Неймара-младшего и Киллиана Мбаппе, Эдинсона Кавани и Анхеля ди Марии, Лорана Блана и Унаи Эмери, телепается в трех очках от зоны вылета. Проигрывает дома, на великокняжеском стадионе, заштатному «Генгаму». Причем не как-то скромно продувает, а сливается 0:4! На том самом стадионе, где самовлюбленные жлобы обделывали свои дела. Занимались коррупцией и торговали влиянием. Прямо не выходя из стадионной ложи. А почему все? От жадности их и непорядочности. Необязательности и хамства. Склеили зачем-то нашего Сашу Головина, надежду РФ-футбола. 22 года пацану, мог расти-расти. Так сами же и сломали его на второй тренировке, чтобы не конкурировал с черножопыми тамошними из Мали и Камеруна. Выгнали Леонарду Жардима, взяли Тьерри Анри, чтобы только сэкономить. ***, как сказал бы в конце такого послания сам лично Дмитрий Евгеньевич. Им князь Альбер возвестил: продавайте клуб, ***, а то от вас ничего, кроме стыда и позора, не дождешься. А они — нет, дескать, пока не подтвердятся все обвинения в самом страшном суде, загубим команду, потопим княжество и сдохнем сами, но контрольный пакет клуба не отдадим! ***, вот они кто! И больше никто. И со мной так же поступили, как с футбольным клубом. Совершенно ничуть не по-иному.
Но за это унижение я буду вознагражден. Теперь-то точно путь мой в Вену, и нечто придумается само собой, безо всякого земного напоминания. Вот, например, голубоглазый Мушег, массой тела 128 кг, позвонит мне по скайпу. И предложит что-то отвлекающее меня от застарелого долга за телефон. Нет, если приставы не задержат меня за 21 000 целковых в международном аэропорту Домодедово, откуда безвольно летает и куда беспрекословно возвращается чесночный «Остриан Эйрлайнз», то всенепременно, без единого обратного шанса окажусь в Вене. Ровно в назначенный час, у самых врат брейгелиного пиршества.
Я зашел домой. Квартира у меня полуторакомнатная. Как любил нобелевский лауреат И. А. Бродский до отъезда в лучший из миров. Кусок бывшей коммуналки в доме 1923 года. Ремонт 1983 года. В честь 60-летнего юбилея дома. О ту пору правил нами шеф КГБ Юрий В. Андропов, вот и ремонты делались на славу. Потому и мой ремонт дожил до наших дней. Я, правда, года три тому пропил подлинный словарь Брокгауза и Ефрона, но к реновации и Андропову это отношения не имеет. Домработница не вызывалась два с половиною месяца. А не десять, как я самонадеянно утверждал на старте этого повествования. Полтора куска рублей жалко. Знаете, сколько это сырков «Дружба»? Посчитайте. Но пока квартирку я вам не описываю. Стыдновато как-то. Никого и не позовешь в гости при такой-то разрухе. Не поверят, что это не декорация. Как говорил все тот же тов. Андропов, пока у алкаша есть стыд, он еще не совсем больной. Устами генерала армии исторгается истина, даже если армии у него совсем не осталось.
Вот за это и страдают русские магнаты-коллекционеры с островами, яхтами и юношами из Марокко. Коррумпировал-коррумпировал ментов-монегасков, да не выкоррумпировал. Наверняка, забыл еще про двух-трех, самых тайных и стремных. Пожадничал. Они-то его и схлопнули. Или обещал дать самолет свой, А319, любовнице князя Альбера. Чтобы в Вену ей слетать на выставку спокойно, без соседства излишнего и хабального. А потом подумал: не жирно ли будет. А князь Альбер, он хоть и гей, то есть натуральный пидорас, человек верный, жестокий и злобносуетный. Любовниц своих в беде не бросает. Чтоб и они его не бросили и не рассказали в СМИ, кого он на самом деле в жопу ***. Я вот читал в журнале «7 дней» большую историю про княжеский роман с нашей фигуристкой Мариной Анисиной. Ну ясно же там, с третьего абзаца ясно, что любовь у них фиктивная, как вексель Миссисипской компании. Что всякому вельможному пидорасу требуется операция прикрытия, и позвончее. Потому и нельзя кидать красавиц, прикрывающих бипедального князя, ой как нельзя.
Вон Его Высочество и вызверились на коллекционера. Пожалел мелкие деньги, сука Евгеньич, теперь потратится на большие. Жлобы они все. Жлобы и ублюдки. Никаких других слов про них сказать не могу. И по жлобству и по ублюдству их — воздастся им. Вот увидите.
А что они сотворили с футбольным клубом «Монако»? Вчерашний чемпион, боровшийся на равных с «ПСЖ» Неймара-младшего и Киллиана Мбаппе, Эдинсона Кавани и Анхеля ди Марии, Лорана Блана и Унаи Эмери, телепается в трех очках от зоны вылета. Проигрывает дома, на великокняжеском стадионе, заштатному «Генгаму». Причем не как-то скромно продувает, а сливается 0:4! На том самом стадионе, где самовлюбленные жлобы обделывали свои дела. Занимались коррупцией и торговали влиянием. Прямо не выходя из стадионной ложи. А почему все? От жадности их и непорядочности. Необязательности и хамства. Склеили зачем-то нашего Сашу Головина, надежду РФ-футбола. 22 года пацану, мог расти-расти. Так сами же и сломали его на второй тренировке, чтобы не конкурировал с черножопыми тамошними из Мали и Камеруна. Выгнали Леонарду Жардима, взяли Тьерри Анри, чтобы только сэкономить. ***, как сказал бы в конце такого послания сам лично Дмитрий Евгеньевич. Им князь Альбер возвестил: продавайте клуб, ***, а то от вас ничего, кроме стыда и позора, не дождешься. А они — нет, дескать, пока не подтвердятся все обвинения в самом страшном суде, загубим команду, потопим княжество и сдохнем сами, но контрольный пакет клуба не отдадим! ***, вот они кто! И больше никто. И со мной так же поступили, как с футбольным клубом. Совершенно ничуть не по-иному.
Но за это унижение я буду вознагражден. Теперь-то точно путь мой в Вену, и нечто придумается само собой, безо всякого земного напоминания. Вот, например, голубоглазый Мушег, массой тела 128 кг, позвонит мне по скайпу. И предложит что-то отвлекающее меня от застарелого долга за телефон. Нет, если приставы не задержат меня за 21 000 целковых в международном аэропорту Домодедово, откуда безвольно летает и куда беспрекословно возвращается чесночный «Остриан Эйрлайнз», то всенепременно, без единого обратного шанса окажусь в Вене. Ровно в назначенный час, у самых врат брейгелиного пиршества.
Я зашел домой. Квартира у меня полуторакомнатная. Как любил нобелевский лауреат И. А. Бродский до отъезда в лучший из миров. Кусок бывшей коммуналки в доме 1923 года. Ремонт 1983 года. В честь 60-летнего юбилея дома. О ту пору правил нами шеф КГБ Юрий В. Андропов, вот и ремонты делались на славу. Потому и мой ремонт дожил до наших дней. Я, правда, года три тому пропил подлинный словарь Брокгауза и Ефрона, но к реновации и Андропову это отношения не имеет. Домработница не вызывалась два с половиною месяца. А не десять, как я самонадеянно утверждал на старте этого повествования. Полтора куска рублей жалко. Знаете, сколько это сырков «Дружба»? Посчитайте. Но пока квартирку я вам не описываю. Стыдновато как-то. Никого и не позовешь в гости при такой-то разрухе. Не поверят, что это не декорация. Как говорил все тот же тов. Андропов, пока у алкаша есть стыд, он еще не совсем больной. Устами генерала армии исторгается истина, даже если армии у него совсем не осталось.
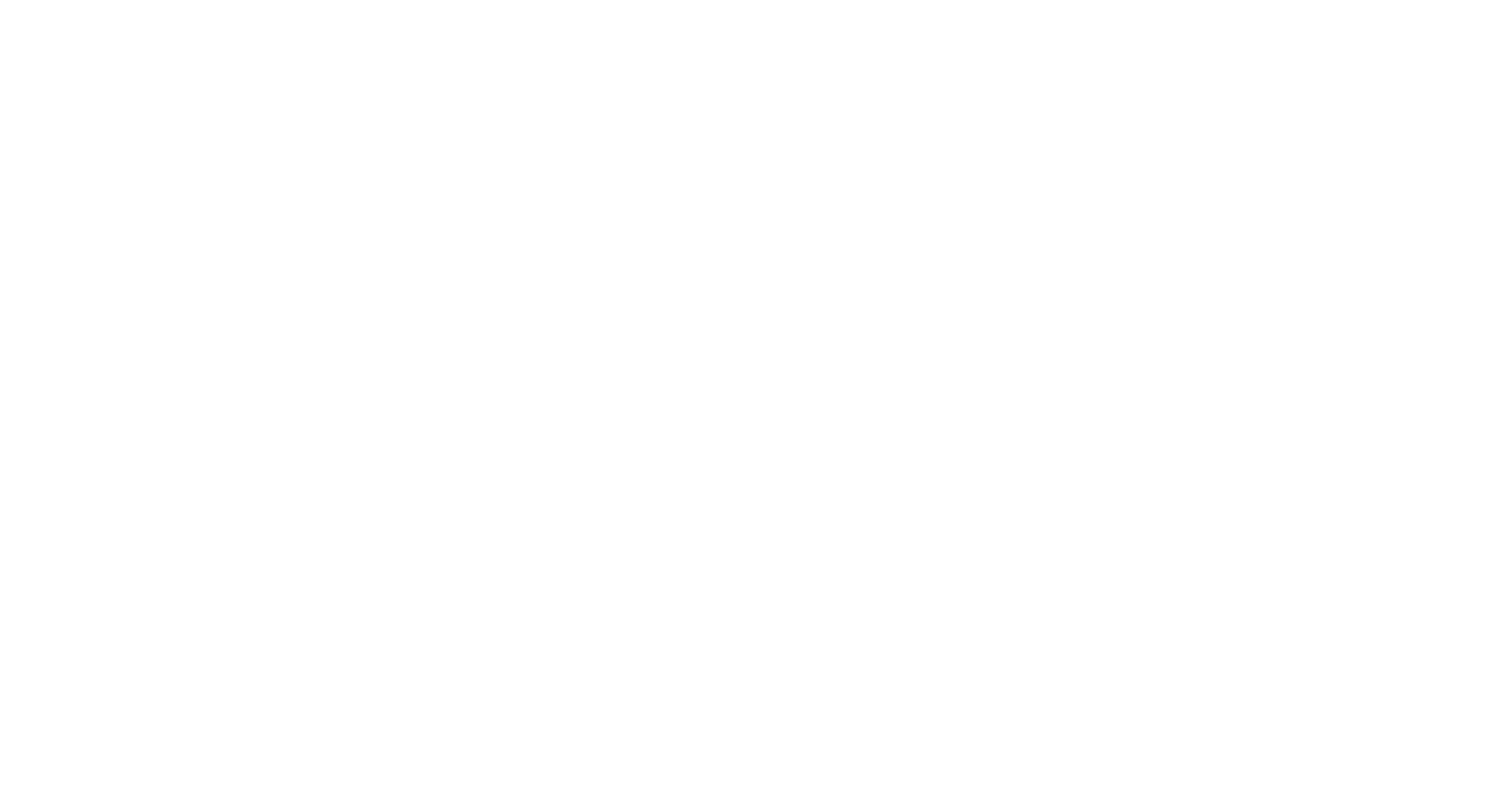
Но 600 рублей за интернет заплачены мною всегда. И сейчас — будет скайп. Он звонит. Играет всей мощью хора из «Кармины Бураны». Я, кстати, лет до 26 считал, что Кармина Бурана — это женское имя. Как Манон Леско или там Катерина Измайлова. А потом мне объяснили. Тяжек камень взросления, что и судить.
— Стасик, это ты?
— Мушегик, я. Ты ж видишь.
А может, такие мешки под глазами и экзема на левой щеке, что он и не узнает попервоначалу? Следи за собой, живи аккуратней, если выпил, не вылезай в социализированные места, говорила мне некогда бабушка. Родная, семейная бабушка. Да и права была, уж куда как права.
Я ведь еще и не знал, верно ли его называть «Мушегик». Может, у солидных армян такое уменьшительное не принято. Или лучше со смягчением согласной? «Мушежек» — как «Олежек». Или как «ночлежек»? Нет, ночлежек нельзя никак, ибо сакральное не смягчается, а остается сухим, как рука Иосифа Сталина. Есть еще слово «ночлежка», точно есть. Это феминитив от «ночлежек», которого нет. Феминитив несуществующего. Хорошее название для философской книжки, и чтобы ничего не понятно. Как у них водится.
— Вижу, вижу, Стасичек. Это я так спросил. Мало ли, ты занят. Выглядишь прекрасно, кстати, просто на десять баллов.
Армяне умеют говорить комплименты. Лучше, чем всякий наш брат даже. И он уменьшил меня, чтобы я не комплексовал. О, это райское снисхождение!
— Чем обязан, мой дорогой?
Это я сказал. Всегда путал: «чем обязан» или «чему обязан»? Ну да ладно, монофизитская совесть простит.
— Ты занят сейчас, сильно занят?
Мушегик, он же Мушежек, говорит с приличным армянским акцентом. Приличным во всех смыслах — сильным и допустимым одноврЕменно. Две трети армянского обаяния — в этом акценте. Я как-то сказал ему, когда мы выпили по триста «Грей Гуза»: не улучшай свой русский. Оставляй все как есть. Фирменный акцент в России все спишет. А не дай Бог чисто заговоришь по-русски — начнут относиться тебе как к обычному человеку. Быдлу, типа, простому. Зачем тебе это? Вот есть такой телеведущий В. В. Познер. Умный, стройный, красивый, хотя ему и 92 года. Так в чем его главный секрет? В том, друзья, что он говорит с легким акцентом. Какого этнического происхождения, не понятно, но слышно, что иностранец. А значит, серьезный чувак. Не подведет нас, русских. Ведь совсем другую жизнь прожил, о которой мы мечтать не могли. Потому, даже если кто В. В. Познера совершенно на экране не понимает, все равно уважает. За акцент и этот флер, флейвор иностранщины, незаменимый в наших провинциальных степях.
— Да нет, Мушег, дорогой. Только закончил квартиру убирать. Говорил еще по скайпу с Димой Рыболовлевым. Слышал эту историю, да? Он уже дома, в «Бель Эпок». Жарит петушка в красном вине. Своими руками, конечно, представляешь? Не переживает, настроение отличное. Велел тебе кланяться.
— Димочка? Да, жуткая история. Его там били ведь. Писали, что били. Я сам читал. Французы жуткие люди. Страшнее только армяне. Страшнее только армян, я хотел сказать.
Мушег расхохотался. Смех тоже всегда бывает с акцентом. Я хохотать политкорректно не стал. Я же не армянин. Вроде бы. Хотя если б мне дали приличный грант на превращение в армянина. О, интересная идея! Скажем, берется какой-нибудь сумрачный олигарх системы «Ара Абрамян», вешается вниз его растительной головой, и так из него вытрясается миллион американских долларов на показательный педагогический проект «Превращение пожилого пьющего еврея в эталонного армянина». Проект включает: обнаружение у старого пьющего еврея армянских корней (по бумажкам, а не на уровне слухов или утечек в мусорных СМИ); ускоренное изучение национального языка по методике профессора Раффи Ованисяна (такой существует или мерещится?); демонстративный отказ от еврейства в пользу армянства; переход в лоно Армянской матери-церкви; освоение армянского акцента в русской речи и вообще всякой прочей речи, какая еще пригодится; 12 интервью международным СМИ на общую тему The importance of being Armenian; роуд-шоу по городам и селам новой Родины. Тем, кто это организует, я готов откатить до половины. Расходы-то там небольшие. А у меня тогда возникнут не только теплые ботинки количеством до пяти пар, но и полноценный шарф, наконец. Объемлющий всю шейно-грудную клетку, как небесный купол — животных земного цирка.
Мой приятель Андрей Курпатов — он телемагнат, но прикидывается простым психоаналитиком — объяснял мне про альтернативную идентичность. Это ведь как бывает. Допустим, у тебя кризис среднего возраста. Или того хуже — позднего возраста. Когда понимаешь, что *** свою мудацкую жизнь, не по таланту щедро отгруженную тебе легкомысленным Господом. И шансов исправить дело практически нет. Господу поручить нельзя, а самому — не под силу. Тогда выдумываешь себе радикально новую идентичность. Например, объявляешь себя геем, то есть пидорасом. Скажем, великий (великий-великий, вы не подумайте, что я шучу) писатель Лимонов провозгласил себя пидором в знак протеста против подлого ухода любимой (его) жены Леночки в 1975 году. И всю эту знаменитую сцену про *** с негром на свалке Нью-Йорка — выдумал от начала до конца, ей-ей. Русский писатель может все, кроме *** с неграми. Так еще со времен какого-нибудь Тредиаковского повелось. Или журналист Красовский, такой тоже есть, рассказал всем, что он гей, чтобы получить много американских денег на борьбу со СПИДом. И, кажется, получил. А можно просто поменять свое первое и фамильное имя. Скажем, с «Артем Дзюба» на «Шарль Сван». И тогда никакой лимит на легионеров не страшен.
И я нынче Стасик Белковский, а стану, допустим, Тигран Рштуни. В честь великого царя Тиграна II, при котором Армения имела выход к Красному морю. На вершине Арарата был тогда наш флагманский ресторан «Ной», где подавали непорочное мясо супружеских пар. А ереванский «Арарат» выигрывал Кубок чемпионов УЕФА, никак не меньше. Я куда как помню те дни. Как мы порвали «Ювентус», когда Хорен Оганесян под занавес пробил Дино Дзоффа. Мы еще не знали, что стартовое «з» в итальянском читается как «дз», и говорили запросто — «Зофф», а не «Дзофф». Понимание про Дзоффа пришло позже, когда загасили впервые турок в битве при Абукире. Но алчного вкуса победы это простоватое «з» не изменило отнюдь. То был финал. В Иерусалиме, на стадионе Гроба Господня. Там присутствовал и царь Ирод, почетный — по тем временам — президент УЕФА. Нейтрален он был и бесстрастен, как выпитый им же до дна христианский младенец, но все же — я видел своими глазами — симпатизировал нам. Великим армянам. И на 88-й минуте, при мелочном текучем 0:0, когда казалось, что пенальти не избежать — оганесяновый сухой лист. Прострелом пяткой через себя. И стадион — море пламени. Даже царь Ирод, скинув тиару или потеряв ее во всплеске эмоционального напряжения, орал как резаный праведник. 1:0! Мы их сделали. «Ювентус» ***. Вот какие дни помнит армянская история.
— Стасик, это ты?
— Мушегик, я. Ты ж видишь.
А может, такие мешки под глазами и экзема на левой щеке, что он и не узнает попервоначалу? Следи за собой, живи аккуратней, если выпил, не вылезай в социализированные места, говорила мне некогда бабушка. Родная, семейная бабушка. Да и права была, уж куда как права.
Я ведь еще и не знал, верно ли его называть «Мушегик». Может, у солидных армян такое уменьшительное не принято. Или лучше со смягчением согласной? «Мушежек» — как «Олежек». Или как «ночлежек»? Нет, ночлежек нельзя никак, ибо сакральное не смягчается, а остается сухим, как рука Иосифа Сталина. Есть еще слово «ночлежка», точно есть. Это феминитив от «ночлежек», которого нет. Феминитив несуществующего. Хорошее название для философской книжки, и чтобы ничего не понятно. Как у них водится.
— Вижу, вижу, Стасичек. Это я так спросил. Мало ли, ты занят. Выглядишь прекрасно, кстати, просто на десять баллов.
Армяне умеют говорить комплименты. Лучше, чем всякий наш брат даже. И он уменьшил меня, чтобы я не комплексовал. О, это райское снисхождение!
— Чем обязан, мой дорогой?
Это я сказал. Всегда путал: «чем обязан» или «чему обязан»? Ну да ладно, монофизитская совесть простит.
— Ты занят сейчас, сильно занят?
Мушегик, он же Мушежек, говорит с приличным армянским акцентом. Приличным во всех смыслах — сильным и допустимым одноврЕменно. Две трети армянского обаяния — в этом акценте. Я как-то сказал ему, когда мы выпили по триста «Грей Гуза»: не улучшай свой русский. Оставляй все как есть. Фирменный акцент в России все спишет. А не дай Бог чисто заговоришь по-русски — начнут относиться тебе как к обычному человеку. Быдлу, типа, простому. Зачем тебе это? Вот есть такой телеведущий В. В. Познер. Умный, стройный, красивый, хотя ему и 92 года. Так в чем его главный секрет? В том, друзья, что он говорит с легким акцентом. Какого этнического происхождения, не понятно, но слышно, что иностранец. А значит, серьезный чувак. Не подведет нас, русских. Ведь совсем другую жизнь прожил, о которой мы мечтать не могли. Потому, даже если кто В. В. Познера совершенно на экране не понимает, все равно уважает. За акцент и этот флер, флейвор иностранщины, незаменимый в наших провинциальных степях.
— Да нет, Мушег, дорогой. Только закончил квартиру убирать. Говорил еще по скайпу с Димой Рыболовлевым. Слышал эту историю, да? Он уже дома, в «Бель Эпок». Жарит петушка в красном вине. Своими руками, конечно, представляешь? Не переживает, настроение отличное. Велел тебе кланяться.
— Димочка? Да, жуткая история. Его там били ведь. Писали, что били. Я сам читал. Французы жуткие люди. Страшнее только армяне. Страшнее только армян, я хотел сказать.
Мушег расхохотался. Смех тоже всегда бывает с акцентом. Я хохотать политкорректно не стал. Я же не армянин. Вроде бы. Хотя если б мне дали приличный грант на превращение в армянина. О, интересная идея! Скажем, берется какой-нибудь сумрачный олигарх системы «Ара Абрамян», вешается вниз его растительной головой, и так из него вытрясается миллион американских долларов на показательный педагогический проект «Превращение пожилого пьющего еврея в эталонного армянина». Проект включает: обнаружение у старого пьющего еврея армянских корней (по бумажкам, а не на уровне слухов или утечек в мусорных СМИ); ускоренное изучение национального языка по методике профессора Раффи Ованисяна (такой существует или мерещится?); демонстративный отказ от еврейства в пользу армянства; переход в лоно Армянской матери-церкви; освоение армянского акцента в русской речи и вообще всякой прочей речи, какая еще пригодится; 12 интервью международным СМИ на общую тему The importance of being Armenian; роуд-шоу по городам и селам новой Родины. Тем, кто это организует, я готов откатить до половины. Расходы-то там небольшие. А у меня тогда возникнут не только теплые ботинки количеством до пяти пар, но и полноценный шарф, наконец. Объемлющий всю шейно-грудную клетку, как небесный купол — животных земного цирка.
Мой приятель Андрей Курпатов — он телемагнат, но прикидывается простым психоаналитиком — объяснял мне про альтернативную идентичность. Это ведь как бывает. Допустим, у тебя кризис среднего возраста. Или того хуже — позднего возраста. Когда понимаешь, что *** свою мудацкую жизнь, не по таланту щедро отгруженную тебе легкомысленным Господом. И шансов исправить дело практически нет. Господу поручить нельзя, а самому — не под силу. Тогда выдумываешь себе радикально новую идентичность. Например, объявляешь себя геем, то есть пидорасом. Скажем, великий (великий-великий, вы не подумайте, что я шучу) писатель Лимонов провозгласил себя пидором в знак протеста против подлого ухода любимой (его) жены Леночки в 1975 году. И всю эту знаменитую сцену про *** с негром на свалке Нью-Йорка — выдумал от начала до конца, ей-ей. Русский писатель может все, кроме *** с неграми. Так еще со времен какого-нибудь Тредиаковского повелось. Или журналист Красовский, такой тоже есть, рассказал всем, что он гей, чтобы получить много американских денег на борьбу со СПИДом. И, кажется, получил. А можно просто поменять свое первое и фамильное имя. Скажем, с «Артем Дзюба» на «Шарль Сван». И тогда никакой лимит на легионеров не страшен.
И я нынче Стасик Белковский, а стану, допустим, Тигран Рштуни. В честь великого царя Тиграна II, при котором Армения имела выход к Красному морю. На вершине Арарата был тогда наш флагманский ресторан «Ной», где подавали непорочное мясо супружеских пар. А ереванский «Арарат» выигрывал Кубок чемпионов УЕФА, никак не меньше. Я куда как помню те дни. Как мы порвали «Ювентус», когда Хорен Оганесян под занавес пробил Дино Дзоффа. Мы еще не знали, что стартовое «з» в итальянском читается как «дз», и говорили запросто — «Зофф», а не «Дзофф». Понимание про Дзоффа пришло позже, когда загасили впервые турок в битве при Абукире. Но алчного вкуса победы это простоватое «з» не изменило отнюдь. То был финал. В Иерусалиме, на стадионе Гроба Господня. Там присутствовал и царь Ирод, почетный — по тем временам — президент УЕФА. Нейтрален он был и бесстрастен, как выпитый им же до дна христианский младенец, но все же — я видел своими глазами — симпатизировал нам. Великим армянам. И на 88-й минуте, при мелочном текучем 0:0, когда казалось, что пенальти не избежать — оганесяновый сухой лист. Прострелом пяткой через себя. И стадион — море пламени. Даже царь Ирод, скинув тиару или потеряв ее во всплеске эмоционального напряжения, орал как резаный праведник. 1:0! Мы их сделали. «Ювентус» ***. Вот какие дни помнит армянская история.
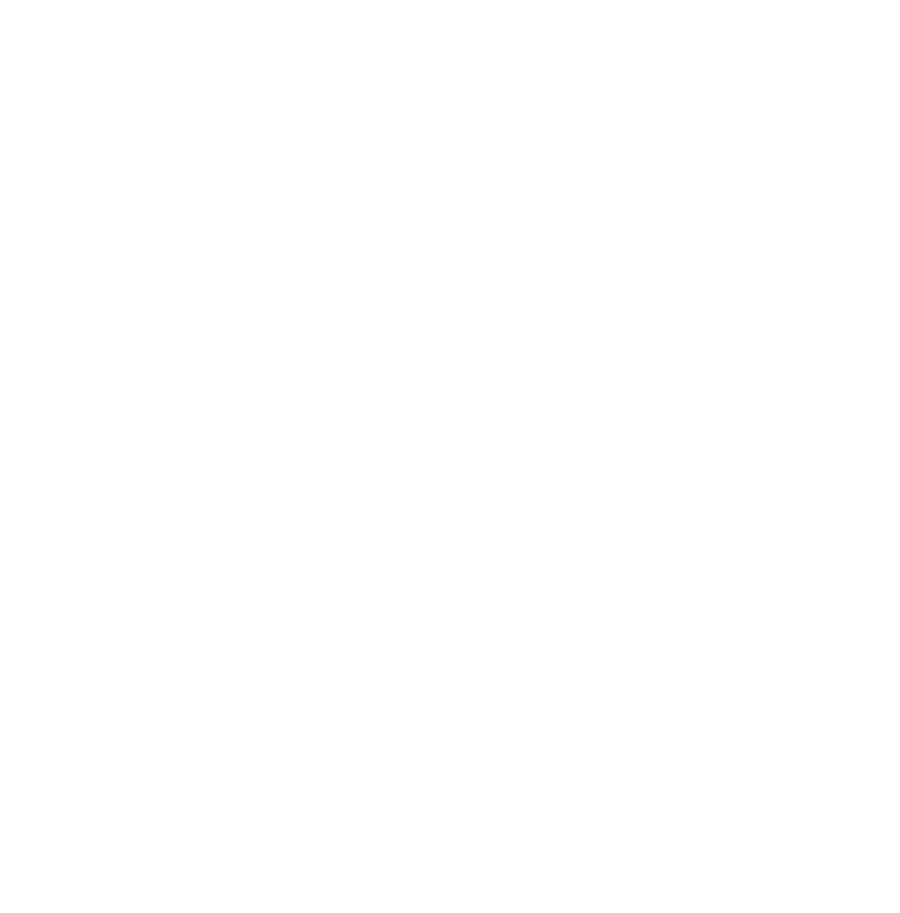
Стоп. А стоит ли так переживать из-за Брейгеля? Как говорится, ищу рукавиц, а обе за поясом. Не сосредоточиться ли на армянском проекте? Миллион долларов США — ну, пусть полмиллиона, с учетом отката — и безоблачная жизнь на следующие 12 лет. Почему 12? Не знаю, первое, что на ум пришло. Правда, армяне могут заставить бросить пить. Точнее, заставить не могут — у меня слишком крепкая воля. Меня нельзя принудить исполнять чужие решения, если я сам с ними сущностно не согласен. Но на компромисс пойду. Допустим: перейти с водки «Праздничная» на армянский коньяк. Например, «Ной». В честь ресторана на горе Арарат. И не меньше пяти звезд. А поскольку титульные армяне все под «Ноем» ходят, особливо в торжественные дни, то никто и не заметит разницы. В конце концов, еврей должен праздновать новообретенное армянство каждый день? Да и не столько благоприобретенное, сколько возвращенное в порядке кристальной исторической справедливости. Словно Крым — Российской Федерации. Когда водка «Праздничная» в сочетании с пивом «Балтика номер ноль» уже готовились исполнить во мне кровавый майдан и порушить основы телесной моей конституции, я провел референдум. Жизненно главные органы — печень, почки и селезенка — проголосовали за независимость. С последующим ходатайством о вхождении в Армению. Их поддержал спинной мозг. Головной — воздержался, но это по излишнему благоразумию. Он слишком печаловал о своем еврействе. А печаловать не следует — надо действовать. Если бы мы армяне слишком долго печаловали, у нас никогда не было бы возлюбленной империи Тиграна II, Кубка европейских (не путать с еврейскими) чемпионов и много еще чего.
Нет-нет-нет.
Все не так.
В моем рассуждении замечен существенный изъян.
Нельзя разбрасываться. Именно эта дурная склонность погубила меня как аналитика и поэта. Когда переходишь с анализа на поэзию, а потом дерзаешь обратно, но уже кругом тьма, и ни один ржавый фонарь не выведет тебя вспять, на подлетную траекторию. И кубарем рушишься под колеса снегоуборщика, как воспетый классиком Мопассаном усатый граф де Маржери.
Армянином стать никогда не поздно. Даже и в Новом году. Который, Бог даст, не последний.
А проект «Брейгель» обязательно довести до ума. И убедить человечество, что даже заблевавший самоубийство Саула может пройти все ступени дворцовой стражи. И оказаться там, где по варварским законам политкорректности совершенно не положено ему быть.
Брейгель — first. Миллион/половина долларов от Ары Абрамяна (ненужное зачеркнуть) — second.
Что там Мушежек?
(Кстати, неплохой термин «мушежеложство». Не в плане уголовной ответственности. Ее здесь нет. А в смысле: возлежать с Мушегом на ложе и рассуждать о теории относительности. Под графинчик правильного «Грей Гуза». Мушежек дешевле не под(д)ает. А если запретят и «Грей Гуз» — тогда уже «Ной»).
— Стасик, а можешь сейчас срочно прийти в «Березку»? Тут разговор есть — на миллион долларов.
Я похолодел, как овальная рюмка перед наливом понятно чего. Они что, сами додумались по выармянивание еврея? Но я не могу до Брейгеля. Никак не могу. Это было бы предательством авторского идеала. Но и от миллиона же не откажешься на ровном месте. И от полумиллиона даже нет. Как быть? И что он все гогочет? Я не умею изображать армянский акцент письменно, впрочем, не умею и устно. Но вы, читатель, из новейших поколений, умеющих миллионократно больше нас, стариков, изобразите акцент для себя таким, каким сможете уяснить и запомнить.
Догадка!
— «Березку» же закрыли. Мушежек.
Это даже не обращение. А междометие. Длинное и черное, из семи букв.
— Ну так точно, закрыли!
И чего смеяться, мой горный барашек?
— Тогда приходи в «Маргариту». Дело серьезное, без дураков тебе говорю. Прямо сейчас. Ты завтракал?
О, меня, должно быть, покормят. До «Маргариты» идти на 6 минут дольше. Завтрак в ней примитивный, без европейских изысков. Всякие скрэмблд еггз и овсяная каша с морозными ягодами. Замороженными ягодами, в смысле. Но немного горячее. Так-то я горячего не ем. Микроволновка моя сломалась лет пять назад. А если б и не сломалась? Не сырок же «Дружба» разогревать? Он растает, расплавится и засрет всю печь, подаренную мне на день исторической победы России над Нидерландами. 3:1. В 2008 году, бандой неизвестных фанатов. Так и было. Прихожу домой — а под дверью картонный короб. С ручной совершенно надписью: «Стасику от банды неизвестных фанатов». Ну, я струхнул немного поначалу. Вдруг взрывчатка или еще чего? А потом думаю: кому я на хрен нужен, взрывчатку переводить. А если и взорвусь — пиар-то совсем нехилый. Уж лучше, чем от водки и от простуд. Занес домой. И там — микроволновая печь. «Филипс», голландская. В честь их желтоглазого поражения. У нидерландцев же глаза цвета тюльпанов, вестников разлуки. И у Питера Брейгеля-старшего были такие глаза. Иначе никто не отметил бы в нем нидерландца, а считали бы немцем или того похуже. Печка же «Филипс» была подержанная, поношенная, поюзанная, как говорят евреи на Брайтон-бич, но крепенькая. Служила мне всегда, пока я не забил на теплое питание окончательно.
— Да, Мушежек. Ну раз ты вызываешь, точно понятно, что важно. Щас закончу колонку и через минут 10–12 буду. Нормально?
Да. Колонок мне не заказывали с тех пор, когда я просрочил дедлайн на похороны Нельсона Манделы. По пьяни просрочил, ясное дело. Соврал, что приняли меня менты, перепутав с исламистом Хоттабом ибн де Мортом, из-за два месяца нестриженой бороды (моей, не ибн де Морта, у него с бородой так и положено). Но мне уже никто не верил. А потом телефон перестал работать. И если б даже кто взалкал художественного слова прозорливого аналитика и будущего армянина, то не смог бы никогда сообщить последнему о первом. В смысле — аналитику о желании, а не армянину об аналитике. По трезвяку можно так запутаться, что и 72 гурии араратских вершин не распутают.
Нет-нет-нет.
Все не так.
В моем рассуждении замечен существенный изъян.
Нельзя разбрасываться. Именно эта дурная склонность погубила меня как аналитика и поэта. Когда переходишь с анализа на поэзию, а потом дерзаешь обратно, но уже кругом тьма, и ни один ржавый фонарь не выведет тебя вспять, на подлетную траекторию. И кубарем рушишься под колеса снегоуборщика, как воспетый классиком Мопассаном усатый граф де Маржери.
Армянином стать никогда не поздно. Даже и в Новом году. Который, Бог даст, не последний.
А проект «Брейгель» обязательно довести до ума. И убедить человечество, что даже заблевавший самоубийство Саула может пройти все ступени дворцовой стражи. И оказаться там, где по варварским законам политкорректности совершенно не положено ему быть.
Брейгель — first. Миллион/половина долларов от Ары Абрамяна (ненужное зачеркнуть) — second.
Что там Мушежек?
(Кстати, неплохой термин «мушежеложство». Не в плане уголовной ответственности. Ее здесь нет. А в смысле: возлежать с Мушегом на ложе и рассуждать о теории относительности. Под графинчик правильного «Грей Гуза». Мушежек дешевле не под(д)ает. А если запретят и «Грей Гуз» — тогда уже «Ной»).
— Стасик, а можешь сейчас срочно прийти в «Березку»? Тут разговор есть — на миллион долларов.
Я похолодел, как овальная рюмка перед наливом понятно чего. Они что, сами додумались по выармянивание еврея? Но я не могу до Брейгеля. Никак не могу. Это было бы предательством авторского идеала. Но и от миллиона же не откажешься на ровном месте. И от полумиллиона даже нет. Как быть? И что он все гогочет? Я не умею изображать армянский акцент письменно, впрочем, не умею и устно. Но вы, читатель, из новейших поколений, умеющих миллионократно больше нас, стариков, изобразите акцент для себя таким, каким сможете уяснить и запомнить.
Догадка!
— «Березку» же закрыли. Мушежек.
Это даже не обращение. А междометие. Длинное и черное, из семи букв.
— Ну так точно, закрыли!
И чего смеяться, мой горный барашек?
— Тогда приходи в «Маргариту». Дело серьезное, без дураков тебе говорю. Прямо сейчас. Ты завтракал?
О, меня, должно быть, покормят. До «Маргариты» идти на 6 минут дольше. Завтрак в ней примитивный, без европейских изысков. Всякие скрэмблд еггз и овсяная каша с морозными ягодами. Замороженными ягодами, в смысле. Но немного горячее. Так-то я горячего не ем. Микроволновка моя сломалась лет пять назад. А если б и не сломалась? Не сырок же «Дружба» разогревать? Он растает, расплавится и засрет всю печь, подаренную мне на день исторической победы России над Нидерландами. 3:1. В 2008 году, бандой неизвестных фанатов. Так и было. Прихожу домой — а под дверью картонный короб. С ручной совершенно надписью: «Стасику от банды неизвестных фанатов». Ну, я струхнул немного поначалу. Вдруг взрывчатка или еще чего? А потом думаю: кому я на хрен нужен, взрывчатку переводить. А если и взорвусь — пиар-то совсем нехилый. Уж лучше, чем от водки и от простуд. Занес домой. И там — микроволновая печь. «Филипс», голландская. В честь их желтоглазого поражения. У нидерландцев же глаза цвета тюльпанов, вестников разлуки. И у Питера Брейгеля-старшего были такие глаза. Иначе никто не отметил бы в нем нидерландца, а считали бы немцем или того похуже. Печка же «Филипс» была подержанная, поношенная, поюзанная, как говорят евреи на Брайтон-бич, но крепенькая. Служила мне всегда, пока я не забил на теплое питание окончательно.
— Да, Мушежек. Ну раз ты вызываешь, точно понятно, что важно. Щас закончу колонку и через минут 10–12 буду. Нормально?
Да. Колонок мне не заказывали с тех пор, когда я просрочил дедлайн на похороны Нельсона Манделы. По пьяни просрочил, ясное дело. Соврал, что приняли меня менты, перепутав с исламистом Хоттабом ибн де Мортом, из-за два месяца нестриженой бороды (моей, не ибн де Морта, у него с бородой так и положено). Но мне уже никто не верил. А потом телефон перестал работать. И если б даже кто взалкал художественного слова прозорливого аналитика и будущего армянина, то не смог бы никогда сообщить последнему о первом. В смысле — аналитику о желании, а не армянину об аналитике. По трезвяку можно так запутаться, что и 72 гурии араратских вершин не распутают.
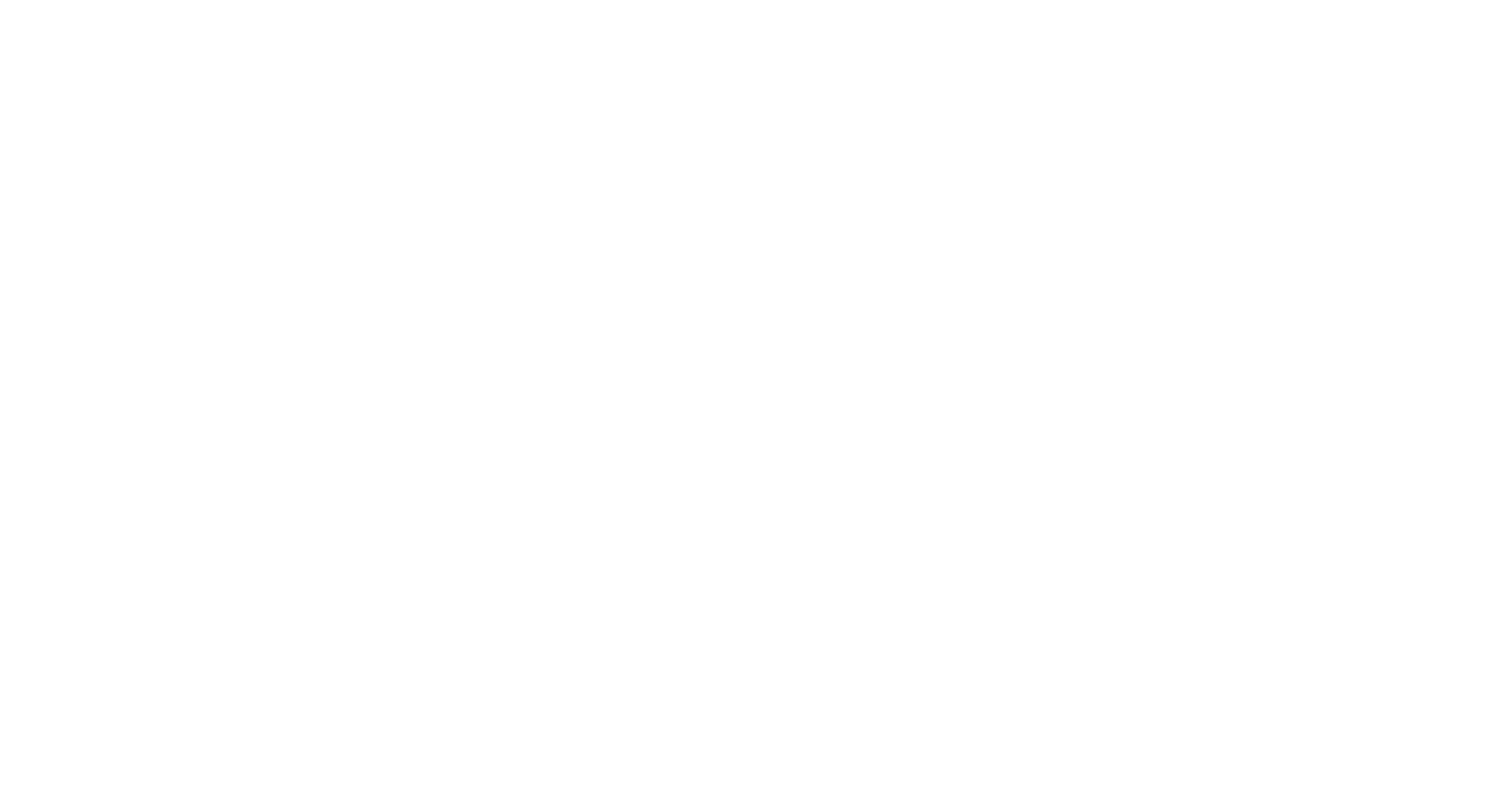
Я опрокинул соточку «Праздничной». Ведь нынче точно будут угощать. Стало быть, нет смысла экономить с утра. Прошло минут 12, а может 14. В конце концов, колонки бывают и протяженнее обыкновенных. Как будто Посейдон, пока мы там паслись, *** вола, и больше ни бельмеса.
А вот уже и «Маргарита». Есть ли здесь ожидательный Мушег? Здоров ли он, спокоен ли он? Главное, чтобы не смотрел на мои ботинки. В крайнем случае скажу, что выбежал в домашних туфлях, чтобы еще дольше не задерживать возлюбленного приятеля. Партнера по дальнему мушежеложеству.
— Стасик, Стасик, я уже заждался. Садись быстрее. Вот уже графинчик, я взял нам по сто пятьдесят. «Грей Гуз» устроит?
Слава Богу. В такие минуты армянский акцент кажется совсем священнодейственным, как домашний моцарт протестантского собора.
— Можно, я выпью соточку сразу? А то перенапрягся я с этой колонкой. Надо снять напряг. И теперь же не утро уже, правда? Я встаю в шесть, а сейчас одиннадцать.
Как учил меня мой весенний друг нарколог Маршак, никак нельзя пить в первые шесть часов после пробуждения. Алкогольдегидрогеназа — такое слово я любил — до того не вырабатывается. Потому легко нажраться вусмерть за полчаса. Каких-нибудь. А когда ее уже много выработается, часов через шесть и/или позже — тогда так просто не нажрешься. Даже субстантивными дозами.
Куда-то делся нарколог Маршак, не звонит. Да, а как позвонит-то, если телефон не работает? Но все равно — забил на меня болт. Безнадежно все. Безнадега, а не надежда, умирает последней. Древние, как с ними часто бывает, солгали.
— Тебе можно все, мой Стасик. Возьмешь кашки с ягодами? Хорошо отводит. Ягоды свежие, я проверял. А о чем колонка?
— О том, как Петр Алексеевич Порошенко поддает с утра. Ты же знаешь мои темы. Хе-хе. Простая политика, ничего больше. Помнишь Порошенко?
— Помню, конечно. Тот, что был с нами в казино в Днепропетровске. Он там на Украине щас бандит большой, нет?
— Он президент и хозяин всей Украины. Хорошо говорит по-английски. Потому хочет быть похожим на Черчилля. Помнишь Черчилля? Для этого поддает с утра.
— Ну, Стасик, за Черчилля так просто не сойдешь. Нужен мой живот или, по крайнему случаю, твой. А что/как он поддает?
— Перед завтраком — сотку виски. После — бутылку шампанского. Потом спит два часа в специальной барокамере. А дальше — идет на войну. Чтобы прямо совсем как Черчилль. С двумя сигарами в каждых зубах. Колонка. Вот. Восемь тысяч знаков.
— Восемь тысяч долларов? Немало, да. Но ты всегда самый умный был. Я потому щас тебя и позвал. Ну, давай за тебя, дорогой. Мой.
У меня от ста пятидесяти почти ничего не осталось. Но он же нальет еще. Он — приглашающая сторона. И потому, по нашему евроармянскому этикету, должен взять всю финансовую ответственность за проживание и питание. Проживание бравых дней и питание сумеречных душ. Дай Бог.
Ух. Все-таки «Грей Гуз» — хорошая штука. Но не потому, что вкуснее «Праздничной» той же. Или чище. Аналитики алкогольного рынка никогда не берут во внимание важнейший параметр. Критерий оценки спиртного напитка. А именно: за чей счет выпиваем. Если за свой, то есть мой, то есть объекта исследования, тогда качество ниже, а негативное воздействие на организм — круче. А если за чужой, то есть неких субъектов за пределами предметной области, то влияние на состояние внутренних органов значительно благотворнее. Особенно же — на печень, селезенку и спинной мозг. Или костный мозг, я их путаю. Столько у человека к концу света мозгов развелось, что и не перечтешь.
И «Грей Гуз» лучше «Праздничной» не физико-химически, то есть органически, а тем, что Мушег угощает. А я вот никогда «Грей Гузом» никого не угощаю. Даже себя. Ибо знаю верно: если за свой счет — это страшный удар по организму. Непоправимый.
Меня раньше талантливая молодежь по барам часто приглашала. В «Будду Бар», и «Пинч», и много куда еще. Писатели, актеры, социологи. А потом — перестала приглашать. Молодежь эта. И я догадался. Звали, чтоб я за всех заплатил. А когда деньги у меня кончились — после *** колонки на смерть Манделы мне уже никто ничего не платил и не пытался, — утратили ко мне интерес. Но я не в обиде. Интерес к себе надо долго поддерживать, а я не сумел. Зато я сэкономил время, и теперь прорвусь на Брейгеля, чем бы то ни обернулось. Мир содрогнется, издав страшный стук, как отель «Арарат» в миг остановки ковчега.
Плывут, плывут! — прокричал тогда белл-бой «Арарата».
— А ты не про Бригеля разве писал, Стасик? Щас все только про Бригеля пишут и говорят.
Бригель — это Брейгель? Даже я еще могу догадаться. К чему это он клонит? Не будет абрамяньего миллиона на обармянивание пожилого еврея? Думает, налил всего ничего — и уже пора торговаться. Истинно, истинно было сказано — разберутся с евреями, тогда примутся за армян. Может, в грузины лучше податься? Они все какие-то вечные.
— Ты же слышал про выставку Бригеля? В Вене. Все говорят. В какой дом, в какой бар, кабак ни зайдешь — Бригель, Бригель, Бригель.
— Да уж ясно, Мушежек. Я ведь Петера Брейгеля-старшего еще в детстве изучал. Когда ходил в кружок при Пушкинском музее. На Волхонке — знаешь музей?
А вот уже и «Маргарита». Есть ли здесь ожидательный Мушег? Здоров ли он, спокоен ли он? Главное, чтобы не смотрел на мои ботинки. В крайнем случае скажу, что выбежал в домашних туфлях, чтобы еще дольше не задерживать возлюбленного приятеля. Партнера по дальнему мушежеложеству.
— Стасик, Стасик, я уже заждался. Садись быстрее. Вот уже графинчик, я взял нам по сто пятьдесят. «Грей Гуз» устроит?
Слава Богу. В такие минуты армянский акцент кажется совсем священнодейственным, как домашний моцарт протестантского собора.
— Можно, я выпью соточку сразу? А то перенапрягся я с этой колонкой. Надо снять напряг. И теперь же не утро уже, правда? Я встаю в шесть, а сейчас одиннадцать.
Как учил меня мой весенний друг нарколог Маршак, никак нельзя пить в первые шесть часов после пробуждения. Алкогольдегидрогеназа — такое слово я любил — до того не вырабатывается. Потому легко нажраться вусмерть за полчаса. Каких-нибудь. А когда ее уже много выработается, часов через шесть и/или позже — тогда так просто не нажрешься. Даже субстантивными дозами.
Куда-то делся нарколог Маршак, не звонит. Да, а как позвонит-то, если телефон не работает? Но все равно — забил на меня болт. Безнадежно все. Безнадега, а не надежда, умирает последней. Древние, как с ними часто бывает, солгали.
— Тебе можно все, мой Стасик. Возьмешь кашки с ягодами? Хорошо отводит. Ягоды свежие, я проверял. А о чем колонка?
— О том, как Петр Алексеевич Порошенко поддает с утра. Ты же знаешь мои темы. Хе-хе. Простая политика, ничего больше. Помнишь Порошенко?
— Помню, конечно. Тот, что был с нами в казино в Днепропетровске. Он там на Украине щас бандит большой, нет?
— Он президент и хозяин всей Украины. Хорошо говорит по-английски. Потому хочет быть похожим на Черчилля. Помнишь Черчилля? Для этого поддает с утра.
— Ну, Стасик, за Черчилля так просто не сойдешь. Нужен мой живот или, по крайнему случаю, твой. А что/как он поддает?
— Перед завтраком — сотку виски. После — бутылку шампанского. Потом спит два часа в специальной барокамере. А дальше — идет на войну. Чтобы прямо совсем как Черчилль. С двумя сигарами в каждых зубах. Колонка. Вот. Восемь тысяч знаков.
— Восемь тысяч долларов? Немало, да. Но ты всегда самый умный был. Я потому щас тебя и позвал. Ну, давай за тебя, дорогой. Мой.
У меня от ста пятидесяти почти ничего не осталось. Но он же нальет еще. Он — приглашающая сторона. И потому, по нашему евроармянскому этикету, должен взять всю финансовую ответственность за проживание и питание. Проживание бравых дней и питание сумеречных душ. Дай Бог.
Ух. Все-таки «Грей Гуз» — хорошая штука. Но не потому, что вкуснее «Праздничной» той же. Или чище. Аналитики алкогольного рынка никогда не берут во внимание важнейший параметр. Критерий оценки спиртного напитка. А именно: за чей счет выпиваем. Если за свой, то есть мой, то есть объекта исследования, тогда качество ниже, а негативное воздействие на организм — круче. А если за чужой, то есть неких субъектов за пределами предметной области, то влияние на состояние внутренних органов значительно благотворнее. Особенно же — на печень, селезенку и спинной мозг. Или костный мозг, я их путаю. Столько у человека к концу света мозгов развелось, что и не перечтешь.
И «Грей Гуз» лучше «Праздничной» не физико-химически, то есть органически, а тем, что Мушег угощает. А я вот никогда «Грей Гузом» никого не угощаю. Даже себя. Ибо знаю верно: если за свой счет — это страшный удар по организму. Непоправимый.
Меня раньше талантливая молодежь по барам часто приглашала. В «Будду Бар», и «Пинч», и много куда еще. Писатели, актеры, социологи. А потом — перестала приглашать. Молодежь эта. И я догадался. Звали, чтоб я за всех заплатил. А когда деньги у меня кончились — после *** колонки на смерть Манделы мне уже никто ничего не платил и не пытался, — утратили ко мне интерес. Но я не в обиде. Интерес к себе надо долго поддерживать, а я не сумел. Зато я сэкономил время, и теперь прорвусь на Брейгеля, чем бы то ни обернулось. Мир содрогнется, издав страшный стук, как отель «Арарат» в миг остановки ковчега.
Плывут, плывут! — прокричал тогда белл-бой «Арарата».
— А ты не про Бригеля разве писал, Стасик? Щас все только про Бригеля пишут и говорят.
Бригель — это Брейгель? Даже я еще могу догадаться. К чему это он клонит? Не будет абрамяньего миллиона на обармянивание пожилого еврея? Думает, налил всего ничего — и уже пора торговаться. Истинно, истинно было сказано — разберутся с евреями, тогда примутся за армян. Может, в грузины лучше податься? Они все какие-то вечные.
— Ты же слышал про выставку Бригеля? В Вене. Все говорят. В какой дом, в какой бар, кабак ни зайдешь — Бригель, Бригель, Бригель.
— Да уж ясно, Мушежек. Я ведь Петера Брейгеля-старшего еще в детстве изучал. Когда ходил в кружок при Пушкинском музее. На Волхонке — знаешь музей?
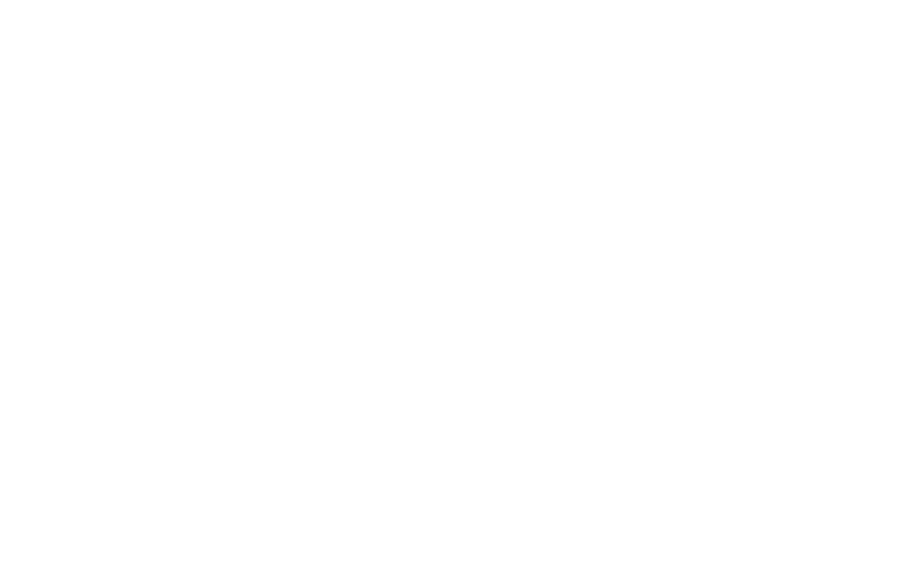
Мушежек собрался отвечать прямо НЕ на поставленный вопрос. Но не важно. Важнее — заказал еще триста. Стало быть, все серьезно. Ничего проходного, мелкого и наносного.
— У меня вот жена тоже собралась. В Вену. На днях. Одна. Без меня. Я хотел не пустить. Но она ни в какую. Хочу Бригеля, орет, истерит и все тут. Ты ведь мою нынешнюю знаешь?
— Кажется, видел, Мушежек. Такая блондинка длинноногая, да?
Полное вранье, никогда не видел. Но как же я мог не видеть? Тем более что — вмастил. Хе-хе.
— Слышишь, какая у тебя память! Один раз видел — и сразу запомнил. Да, Сонечка. На 22 года моложе меня. Дочь главного гомеопата Ростовской области. Мы с ее отцом сидели вместе, тогда и познакомились.
С кем? С Сонечкой? С гомеопатом? Как причудлива эта лагерная проза. Я с детства любил Солженицына. Но потом пропил его подарочное собрание. И не чистое, а с дарственной надписью от федерального правозащитника С. А. Ковалева. Я, как русский писатель, могу вот сказать. Что такое Гамбургский счет для нашей литературы. Гамбургский счет — это бумажка. Бумажка благородная, сафьяновая или атласная. Или совсем мятый клочок, только что вынутый из урны, не важно. Но предмет, на котором написано, за сколько можно полное собрание сочинений реально пропить. Например. Если за собрание Солженицына можно, в вино-водочных целях, выручить 100 тыс. руб., а словарь Брокгауза — Ефрона — 140 тыс., то старые энциклопедисты на 40% круче нобелевского лауреата. Это еще называется ликвидностью литературы, но Гамбургский счет как-то уютней и больше по-нашему. Кто бы там что ни говорил. Все зафиксированы для истории, навсегда.
— Гагик, мой друг, вышел тогда и осел в Ростове. Дорос до главного гомеопата. Лечил всех, даже режиссера Серебровского.
Я мог бы уточнить, что Серебренникова, но это не имело смысла. Очень хотелось по третьему кругу, а заодно дождаться относительно трезвым исключительной сути дела.
— А Софочку я на коленях качал. Вот и докачался. Блондинка. По матери. По отцу чистая армянка, как мы с тобой.
Громокипящий хохот. Он что-то знает все-таки про Абрамяна и миллион? И перейдет нынче на это скользкое обсуждение? Когда мы уже выяснили, что грузином еврею быть понадежнее? Ладно, ладно. Пока Бригель-Брейгель. Залог трезвости в нашем деле — не мешать. То есть — не смешивать.
— А я сам ехать в Вену не могу. Понимаешь, Стасик. Хочу, но никак не могу. И Вену я люблю, и Бригеля, и особенно Софочку, Сонечку. Но сейчас — конец финансового года. Подбиваю бабки. Отвлечься нельзя ни на день. Иначе все обманут, всех ***.
Кто обманет? Кого ***? Власть сплошной бессубъектности предвещает дыхание старости. А может, Мушег просто попал под санкции? И комплексует мне признаться? Мне, теснейшему другу. Напрасно комплексуешь, медвежий мой. Нет страшнее санкций, чем создание Божие само на себя налагает, поверь.
— А ты ведь в Бригеле разбираешься? Я же так и думал. Потому пригласил тебя. Пригласил, конечно, потому что мы с тобой давно не выпивали. А заодно и про выставку. Короче, так чтобы. Можешь ты поехать с моей Сонечкой в Вену? Как гид, экскурсовод. Отвести ее на выставку, все показать, рассказать. Все расходы — на мне. Плюс три тысячи евро моего гонорара.
Наверное, это три тысячи евро моего гонорара. А не гонорара принимающей стороны. Не станет же Мушег платить сам себе. К тому ж на финише финансового года. Могут же все окончательно ***. Но, по правде сказать: предложение-то куда щедрее рыболовного. Осталось только понять: зачем все? Честно поставить под сомнение туманный план моего визави.
— Мушежек, я рад буду и счастлив. Спасибо тебе за приглашение. Только одно гложет, так сказать. А зачем там я? Она же взрослая девочка. Из хорошей семьи. От интеллигентного мужа. Так ли необходимо мое участие? Она ведь может все и сама.
Эти формальные фразы выговаривались все труднее. Все-таки, хоть уже больше одиннадцати, но алкогольдегидрогеназа еще не думала вырабатываться. Чертов Винни-Пух!
Мушег наклонился ко мне в полторы погибели армянского народа. Большему числу погибелей мешал его аутентичный живот-128.
— Я тебе всю правду нашепчу. Чтобы никто не слышал только. Не знал. Совсем никто. Но я тебе доверяю. Мне кажется, у нее любовник есть. С ним она и тащится в Вену. Говорит, что одна. Но ей-ей, не одна. Мне проверить надо. А если нет любовника, и доказано — гонорар я тебе пять тысяч сделаю, не вопрос. Вообще не вопрос!
Горчайший гефсиманский вздох. Живот вернулся в исходное положение. Я все понял.
— Я все понял.
— Отлично, что понял. Давай завтра, а лучше сегодня к вечеру все документы. Мы сделаем. Жить будешь в отеле «Захер», слышал такой? Лучший отель Вены. Я там в президентском номере диван прожег и матрас пролежал. Десять раз живал. Нет — двенадцать, какие десять! Последний — два года назад, на день рождения Ноя.
Хохот, но неуверенный. Как свечение мотылька в эпоху полной Луны.
А это Ной, который коньяк, или Ной, который ковчег? И как действовать дальше? Если учесть, что дальше действовать все равно будем мы.
И дался им этот проклятущий «Захер»! Словно в нашей Вене поприличней гостиниц совсем не осталось. Богатые парни, но провинциальные, быдловатые как есть. Что тот, что этот. Да простится мне. Ведь иначе совсем без подошв останусь на Новый год.
— Мушежек, а как мне действовать дальше? Провзаимодействовать ли с Софочкой? Софьей, в смысле?
Столь длинные глаголы давались мне от лучших чувств расслабленного. И доказывали, что я и в наши часы мог написать колонку про Петра Порошенко, вожделеющего стать Уинстоном Черчиллем.
— Я дам тебе ее телефон. И предупрежу.
— Ты же знаешь, Мушегик, я без телефона.
— А, да.
Как-то сумрачно и словно не заметил, что снова стал Мушегиком из Мушежека. Говорят, еще в армянском языке родов нет. И чуть ли не «мама» — с мужским окончанием. Я бы точно смог это запомнить и выучить. Лишь бы только спонсор Абрамян не умер до моего возвращения с Вены. Помолимся. Всем святым, вместе взятые.
— Я дам тебе ее скайп. Звони послезавтра. Не завтра, а послезавтра. С утра. Вот так же, до обеда. Эй, дорогой, дай листочек и ручку! И еще триста в графин. Побыстрей, мы торопимся! У меня скоро обед в посольстве. ***, побыстрей, ну.
Как-то добрел я до квартиры памяти Андропова. Вскрыл ее обитую войлоком дверь. Кажется, все это напоминало юрту Чингисхана, спасителя мира. Сальватора мунди, понимаешь. Но там сама юрта была из войлока, а дверь — чистейшего золота. Взятого из расплавленных зубных коронок священных русских князей. Полный Аушвиц, короче. И я дошел до сортира. И убедился, что мой сортир ничем, в сущности, не хуже «Самоубийства Саула». Настоящий Брейгель-WC.
Эх, Брейгель-Бригель. Карьеры я не сделал не потому, что не умел пить. А потому, что никогда не стремился закусывать.
Закуска — это ведь очень пошло, если призадуматься. А на моем могильном камне, где-то на Востряковском кладбище Мценского уезда, будет-таки написано: Gegen der Gemeinheit. Типа против пошлости. Не имя, не фамилия, а девиз. На дворянский девиз я не вытянул, ибо у меня нет герба. Но хоть на мещанский потяну.
Моя точка зрения не победит. Пошлость — русский хлеб. Оно только и спасает от разорванной на груди кольчуги, жажды гибельного гения, духа всеискупающего героя. Отсюда и Gemeinheit — общность, общее место. Ведь все русское — это общность и общее место. Хоть земля крестьянам, хоть коммунизм рабочим, а хоть могила — солдатам. Неизвестным. Но встречным на улице, как тот Семен-Петр из собрания Рыболовлева.
Gemeinheit, как ни крути.
Откуда есть пошлая русская земля — ответа так и не дадено.
До завтра.
— У меня вот жена тоже собралась. В Вену. На днях. Одна. Без меня. Я хотел не пустить. Но она ни в какую. Хочу Бригеля, орет, истерит и все тут. Ты ведь мою нынешнюю знаешь?
— Кажется, видел, Мушежек. Такая блондинка длинноногая, да?
Полное вранье, никогда не видел. Но как же я мог не видеть? Тем более что — вмастил. Хе-хе.
— Слышишь, какая у тебя память! Один раз видел — и сразу запомнил. Да, Сонечка. На 22 года моложе меня. Дочь главного гомеопата Ростовской области. Мы с ее отцом сидели вместе, тогда и познакомились.
С кем? С Сонечкой? С гомеопатом? Как причудлива эта лагерная проза. Я с детства любил Солженицына. Но потом пропил его подарочное собрание. И не чистое, а с дарственной надписью от федерального правозащитника С. А. Ковалева. Я, как русский писатель, могу вот сказать. Что такое Гамбургский счет для нашей литературы. Гамбургский счет — это бумажка. Бумажка благородная, сафьяновая или атласная. Или совсем мятый клочок, только что вынутый из урны, не важно. Но предмет, на котором написано, за сколько можно полное собрание сочинений реально пропить. Например. Если за собрание Солженицына можно, в вино-водочных целях, выручить 100 тыс. руб., а словарь Брокгауза — Ефрона — 140 тыс., то старые энциклопедисты на 40% круче нобелевского лауреата. Это еще называется ликвидностью литературы, но Гамбургский счет как-то уютней и больше по-нашему. Кто бы там что ни говорил. Все зафиксированы для истории, навсегда.
— Гагик, мой друг, вышел тогда и осел в Ростове. Дорос до главного гомеопата. Лечил всех, даже режиссера Серебровского.
Я мог бы уточнить, что Серебренникова, но это не имело смысла. Очень хотелось по третьему кругу, а заодно дождаться относительно трезвым исключительной сути дела.
— А Софочку я на коленях качал. Вот и докачался. Блондинка. По матери. По отцу чистая армянка, как мы с тобой.
Громокипящий хохот. Он что-то знает все-таки про Абрамяна и миллион? И перейдет нынче на это скользкое обсуждение? Когда мы уже выяснили, что грузином еврею быть понадежнее? Ладно, ладно. Пока Бригель-Брейгель. Залог трезвости в нашем деле — не мешать. То есть — не смешивать.
— А я сам ехать в Вену не могу. Понимаешь, Стасик. Хочу, но никак не могу. И Вену я люблю, и Бригеля, и особенно Софочку, Сонечку. Но сейчас — конец финансового года. Подбиваю бабки. Отвлечься нельзя ни на день. Иначе все обманут, всех ***.
Кто обманет? Кого ***? Власть сплошной бессубъектности предвещает дыхание старости. А может, Мушег просто попал под санкции? И комплексует мне признаться? Мне, теснейшему другу. Напрасно комплексуешь, медвежий мой. Нет страшнее санкций, чем создание Божие само на себя налагает, поверь.
— А ты ведь в Бригеле разбираешься? Я же так и думал. Потому пригласил тебя. Пригласил, конечно, потому что мы с тобой давно не выпивали. А заодно и про выставку. Короче, так чтобы. Можешь ты поехать с моей Сонечкой в Вену? Как гид, экскурсовод. Отвести ее на выставку, все показать, рассказать. Все расходы — на мне. Плюс три тысячи евро моего гонорара.
Наверное, это три тысячи евро моего гонорара. А не гонорара принимающей стороны. Не станет же Мушег платить сам себе. К тому ж на финише финансового года. Могут же все окончательно ***. Но, по правде сказать: предложение-то куда щедрее рыболовного. Осталось только понять: зачем все? Честно поставить под сомнение туманный план моего визави.
— Мушежек, я рад буду и счастлив. Спасибо тебе за приглашение. Только одно гложет, так сказать. А зачем там я? Она же взрослая девочка. Из хорошей семьи. От интеллигентного мужа. Так ли необходимо мое участие? Она ведь может все и сама.
Эти формальные фразы выговаривались все труднее. Все-таки, хоть уже больше одиннадцати, но алкогольдегидрогеназа еще не думала вырабатываться. Чертов Винни-Пух!
Мушег наклонился ко мне в полторы погибели армянского народа. Большему числу погибелей мешал его аутентичный живот-128.
— Я тебе всю правду нашепчу. Чтобы никто не слышал только. Не знал. Совсем никто. Но я тебе доверяю. Мне кажется, у нее любовник есть. С ним она и тащится в Вену. Говорит, что одна. Но ей-ей, не одна. Мне проверить надо. А если нет любовника, и доказано — гонорар я тебе пять тысяч сделаю, не вопрос. Вообще не вопрос!
Горчайший гефсиманский вздох. Живот вернулся в исходное положение. Я все понял.
— Я все понял.
— Отлично, что понял. Давай завтра, а лучше сегодня к вечеру все документы. Мы сделаем. Жить будешь в отеле «Захер», слышал такой? Лучший отель Вены. Я там в президентском номере диван прожег и матрас пролежал. Десять раз живал. Нет — двенадцать, какие десять! Последний — два года назад, на день рождения Ноя.
Хохот, но неуверенный. Как свечение мотылька в эпоху полной Луны.
А это Ной, который коньяк, или Ной, который ковчег? И как действовать дальше? Если учесть, что дальше действовать все равно будем мы.
И дался им этот проклятущий «Захер»! Словно в нашей Вене поприличней гостиниц совсем не осталось. Богатые парни, но провинциальные, быдловатые как есть. Что тот, что этот. Да простится мне. Ведь иначе совсем без подошв останусь на Новый год.
— Мушежек, а как мне действовать дальше? Провзаимодействовать ли с Софочкой? Софьей, в смысле?
Столь длинные глаголы давались мне от лучших чувств расслабленного. И доказывали, что я и в наши часы мог написать колонку про Петра Порошенко, вожделеющего стать Уинстоном Черчиллем.
— Я дам тебе ее телефон. И предупрежу.
— Ты же знаешь, Мушегик, я без телефона.
— А, да.
Как-то сумрачно и словно не заметил, что снова стал Мушегиком из Мушежека. Говорят, еще в армянском языке родов нет. И чуть ли не «мама» — с мужским окончанием. Я бы точно смог это запомнить и выучить. Лишь бы только спонсор Абрамян не умер до моего возвращения с Вены. Помолимся. Всем святым, вместе взятые.
— Я дам тебе ее скайп. Звони послезавтра. Не завтра, а послезавтра. С утра. Вот так же, до обеда. Эй, дорогой, дай листочек и ручку! И еще триста в графин. Побыстрей, мы торопимся! У меня скоро обед в посольстве. ***, побыстрей, ну.
Как-то добрел я до квартиры памяти Андропова. Вскрыл ее обитую войлоком дверь. Кажется, все это напоминало юрту Чингисхана, спасителя мира. Сальватора мунди, понимаешь. Но там сама юрта была из войлока, а дверь — чистейшего золота. Взятого из расплавленных зубных коронок священных русских князей. Полный Аушвиц, короче. И я дошел до сортира. И убедился, что мой сортир ничем, в сущности, не хуже «Самоубийства Саула». Настоящий Брейгель-WC.
Эх, Брейгель-Бригель. Карьеры я не сделал не потому, что не умел пить. А потому, что никогда не стремился закусывать.
Закуска — это ведь очень пошло, если призадуматься. А на моем могильном камне, где-то на Востряковском кладбище Мценского уезда, будет-таки написано: Gegen der Gemeinheit. Типа против пошлости. Не имя, не фамилия, а девиз. На дворянский девиз я не вытянул, ибо у меня нет герба. Но хоть на мещанский потяну.
Моя точка зрения не победит. Пошлость — русский хлеб. Оно только и спасает от разорванной на груди кольчуги, жажды гибельного гения, духа всеискупающего героя. Отсюда и Gemeinheit — общность, общее место. Ведь все русское — это общность и общее место. Хоть земля крестьянам, хоть коммунизм рабочим, а хоть могила — солдатам. Неизвестным. Но встречным на улице, как тот Семен-Петр из собрания Рыболовлева.
Gemeinheit, как ни крути.
Откуда есть пошлая русская земля — ответа так и не дадено.
До завтра.
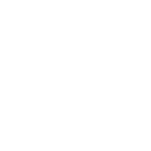
Но.
Прежде чем вести экскурсию по выставке, надо выучить что-то про Питера Брейгеля-старшего. Иначе стыдно будет. Там ведь полно русских, еще услышат, что я горожу ерунду. Расскажут всем, и узнает Мушег, и лишит меня в гневе прибавки в две тысячи евро. И тогда у меня все равно будет теплый шарф, а все же не такой пушистый, на какой я смел бы надеяться и/или рассчитывать.
А ведь в детстве я действительно ходил в волхонский кружок. При Музее прекрасных искусств имени Пушкина. И занимался там, по большей части, немецкими школами. Не общеобразовательными, как вы могли бы подумать, и даже не специализированными, а художественными школами. Самыми что ни на есть. Почему мне и поручили делать лабораторную работу по Брейгелю. Да-да, не смейтесь, вот так и было. Совпадение, зато какое! Сорока годами вперед.
Я выбрал картину — тогда даже у меня было право выбора — «Падение Икара». Смысл которой прост: всем по ***.
А еще второй смысл: если ты полное говно, а ты, скорей всего, полное говно, не смотри прямо на Солнце. Оно сожжет тебе все сетчатки, и ты останешься на постоянно слепым.
Ибо если есть в человеке что вечное, то это именно слепота. Ничто не укрощает страсти создания Божия так, как неколебимая тьма, свидетельница слепоты.
Там, в «Падении Икара», дело обстоит таким примерно образом. Курортная набережная. Залив. Пляж. Песок грязно-желтый. С напомаженными бычками, жестяными банками, пластиковыми пробками. Верно, где-то на Кипре. Близ Пафоса. Или в Турции, Белек/Кемер. Отдыхающие. В тени +30, не меньше. Все голые, расслабляются. Керосинят из горла. Наверху, над пляжем, — приусадебное хозяйство. Там одетый в карее потный мужик, не оглядываясь лицом, идет за плугом. В плуге — то ли буйвол, то ли корова, но оба проклинают мужика, что заставляет работать в такую жару и вообще отнимает у них естественное блаженство. А из залива торчат две розовые ноги, словно маленького ныряльщика. Так вот эти ножки — это и есть Икар. Сразу после падения. И всем, всем отдыхающим, трудящимся, спасателям и вообще органам правопорядка этой курортной зоны наплевать на него совершенно. Это потом полиция выяснит, что он был герой античной мифологии. И сгорел по небрежению человечества. А не по гордыне одной, как предположил изначально местной прокуратуры дознаватель Филипп де Йонг. (Где это видели, чтобы дворянин служил дознавателем? То-то и оно-то. Не сходится. Вот буду писать диссертацию по Брейгелю, тогда разберемся.) И поставят Икару памятник в Роттердаме, в святом самом месте, у горла морского порта. Но это все — потом. А пока — уголовное дело против человечества по статье «***». По которой легко всех изобличить, но никого нельзя посадить. Они видели, как падает мертвый от Солнца герой, но не отметили ничего, кроме его ангельских пяток. Не тронутых стрелою вражеской, но целлюлитных сверх всякого ожидания меры.
И я, будь моя воля, назвал бы полотно не «Падение Икара», а «Мужик с плугом». Или «Всем по ***», на худой конец. Но воля была не моя. А далекого неизвестного художника из города Бреда, по прозвищу Брейгель. Представляете, как это звучит по-русски: город Бреда? А?
Прежде чем вести экскурсию по выставке, надо выучить что-то про Питера Брейгеля-старшего. Иначе стыдно будет. Там ведь полно русских, еще услышат, что я горожу ерунду. Расскажут всем, и узнает Мушег, и лишит меня в гневе прибавки в две тысячи евро. И тогда у меня все равно будет теплый шарф, а все же не такой пушистый, на какой я смел бы надеяться и/или рассчитывать.
А ведь в детстве я действительно ходил в волхонский кружок. При Музее прекрасных искусств имени Пушкина. И занимался там, по большей части, немецкими школами. Не общеобразовательными, как вы могли бы подумать, и даже не специализированными, а художественными школами. Самыми что ни на есть. Почему мне и поручили делать лабораторную работу по Брейгелю. Да-да, не смейтесь, вот так и было. Совпадение, зато какое! Сорока годами вперед.
Я выбрал картину — тогда даже у меня было право выбора — «Падение Икара». Смысл которой прост: всем по ***.
А еще второй смысл: если ты полное говно, а ты, скорей всего, полное говно, не смотри прямо на Солнце. Оно сожжет тебе все сетчатки, и ты останешься на постоянно слепым.
Ибо если есть в человеке что вечное, то это именно слепота. Ничто не укрощает страсти создания Божия так, как неколебимая тьма, свидетельница слепоты.
Там, в «Падении Икара», дело обстоит таким примерно образом. Курортная набережная. Залив. Пляж. Песок грязно-желтый. С напомаженными бычками, жестяными банками, пластиковыми пробками. Верно, где-то на Кипре. Близ Пафоса. Или в Турции, Белек/Кемер. Отдыхающие. В тени +30, не меньше. Все голые, расслабляются. Керосинят из горла. Наверху, над пляжем, — приусадебное хозяйство. Там одетый в карее потный мужик, не оглядываясь лицом, идет за плугом. В плуге — то ли буйвол, то ли корова, но оба проклинают мужика, что заставляет работать в такую жару и вообще отнимает у них естественное блаженство. А из залива торчат две розовые ноги, словно маленького ныряльщика. Так вот эти ножки — это и есть Икар. Сразу после падения. И всем, всем отдыхающим, трудящимся, спасателям и вообще органам правопорядка этой курортной зоны наплевать на него совершенно. Это потом полиция выяснит, что он был герой античной мифологии. И сгорел по небрежению человечества. А не по гордыне одной, как предположил изначально местной прокуратуры дознаватель Филипп де Йонг. (Где это видели, чтобы дворянин служил дознавателем? То-то и оно-то. Не сходится. Вот буду писать диссертацию по Брейгелю, тогда разберемся.) И поставят Икару памятник в Роттердаме, в святом самом месте, у горла морского порта. Но это все — потом. А пока — уголовное дело против человечества по статье «***». По которой легко всех изобличить, но никого нельзя посадить. Они видели, как падает мертвый от Солнца герой, но не отметили ничего, кроме его ангельских пяток. Не тронутых стрелою вражеской, но целлюлитных сверх всякого ожидания меры.
И я, будь моя воля, назвал бы полотно не «Падение Икара», а «Мужик с плугом». Или «Всем по ***», на худой конец. Но воля была не моя. А далекого неизвестного художника из города Бреда, по прозвищу Брейгель. Представляете, как это звучит по-русски: город Бреда? А?
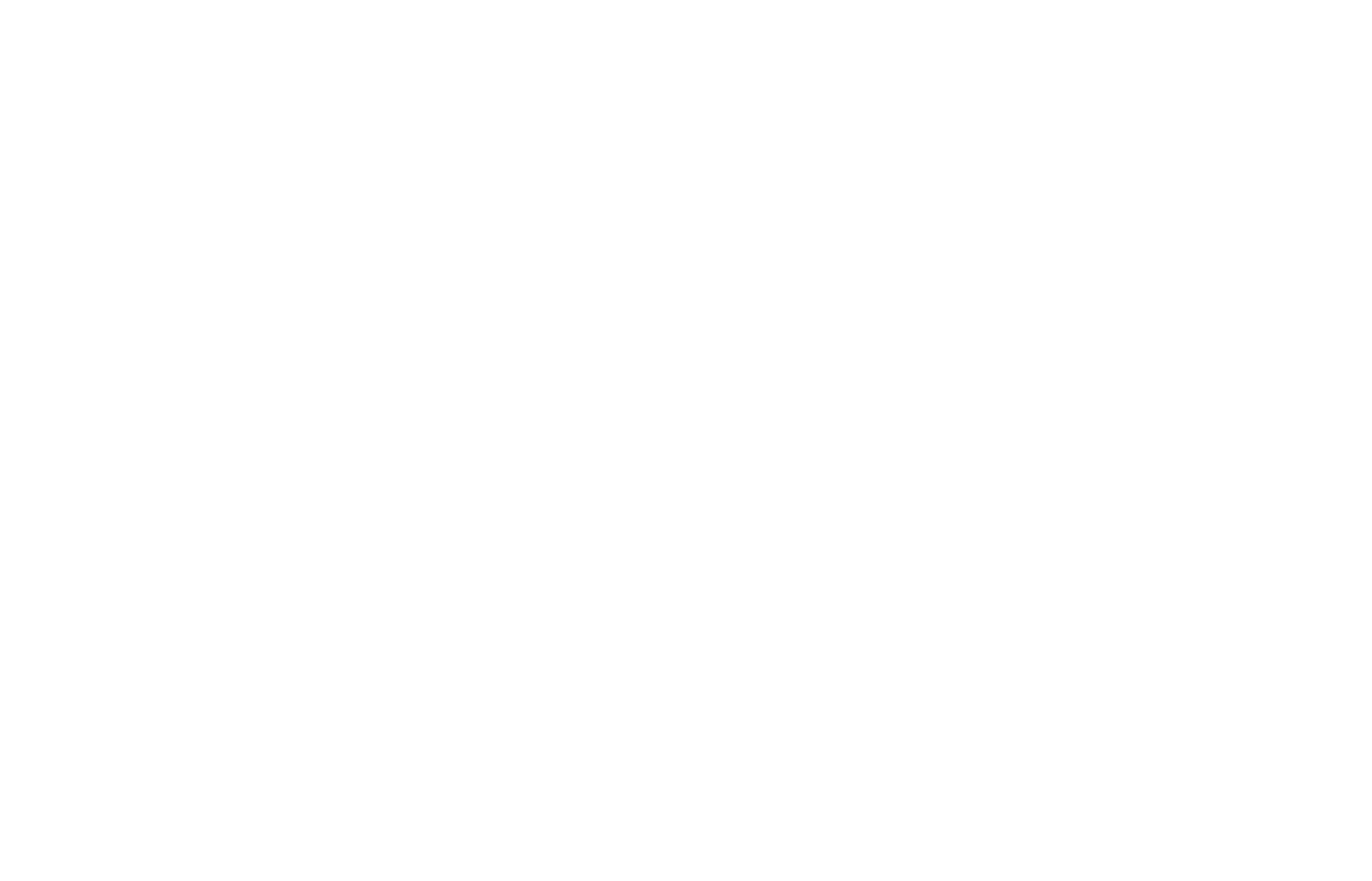
У нас тут один сплошной город бреда, но мы не жалуемся. Тянем лямку, как нам и положено.
Еще вы спросите: он же нидерландец вроде как считается, при чем здесь немецкие школы, которые ты, Белковский, с похмелья упоминал?
А ответ ведь еще проще, чем пятна на Солнце. Немцы и голландцы суть одно. Особенно в Брейгелевы времена. Германское Deutsch и британское Dutch — почти синонимы. Это значит — народ. Голландцы — филиал немцев. И все они вместе — нидерландцы. Кажется, так объясняла мне учительница волхонского кружка при Пушкинском музее, Галина Иллириковна Шрамкова. Настоящий доктор искусствоведения.
И она же внушила мне одну наиважнейшую, особенно при сегодняшних обстоятельствах, истину. Никогда не сможет считаться настоящим, как Икар, специалистом по Брейгелю, прежде всего — Питеру Брейгелю-старшему, лох, который произносит эту художественную фамилию с «е» в первом слоге. Просто «БрЕйгель».
Нет. Произносить надо «Брёйгель». «Ё» в первом слоге. И не наше кислокапустное «ё», придуманное княгиней Дашковой по навету Державина, а их германское «о умлаут». «Ö» с двумя точками на голове. Как у Блока — «пора смириться, сёр».
Вот отрывок, я до сих пор наизусть помню.
На кресло у огня уселся гость устало, И пес у ног его разлегся на ковер. Гость вежливо сказал: «Ужель еще вам мало? Пред Гением Судьбы пора смириться, сöр».
Становишься перед зеркалом, где еще различим молодой не очень пьющий еврей, и говоришь глубокое «о», длинно вытягивая губы вперед, к стекловатной поверхности. Так и получается «о умлаут». О с двумя горизонтальными точками над головой. Семь раз тренируешься — и готов.
Так что Мушег, мой любезный, был ближе к истине, чем весь наш туристический плебс. Он говорит «Бригель», и это далеко от образца Галины Иллириковны Шрамковой. Но это уже бунт против фальшивой обыденности, и Мушег движется в правильном направлении. Заслуживая дать мне на две штуки больше, если я там не обнаружу любовника.
А я?..
Вдруг обнаружу. Скрыть? А как? Если, наоборот, разоблачится мой примитивный обман. Подумаю перед вылетом, но после встречи с гомеопатовой Софьей. До опохмела такие вещи в принципе не обсуждаются.
Хотя.
Что-то узнать о Брейгеле-старшем пополнее, чем знаю сейчас, божественно необходимо. А как? Где-то у меня была профильная книжка искусствоведа Алпатова. Но как ее найти? Я ведь мог забыть, потерять ее в баре или просто выронить из кармана войлочного пальто. В этом бардаке ничего уже не найдешь, даже грязных следов от дырявых ботинок.
Но есть такая вот еще опция. И Всемирная сеть за 600 рублей/мес. мне в помощь.
Как раз за углом от меня есть лекторий «Горбатая гора». Лучший на Москве, как считается. И там, по сообщению поисковой машины «Яндекс», нынче раз в два дня проводятся лекции про Брейгеля. Без «о умлаута» в анонсе, но все равно. Занятия специально для выезжающих в Вену. В три часа пополудни. Лектор — специально приглашенный венский профессор Фридрих Францевич Краузе. 67 лет. Языки: русский, немецкий.
И сегодня в 15:00 как раз русская лекция! Я пойду и узнаю все, что надо рассказать Софочке. Чтобы убедиться в ее павлиньей верности щедрейшему из Мушегов.
Почему они приводят возраст профессора, неясно, правда. Наверное, для солидности. Когда мальчишка какой читает про нидерландского мастера — это одно. Что он в жизни видел, этот салабон! А если и видел, то одну сплошную фигу эрогенного наполнения. Вот когда 67-летний ветеран, австрийский немец предпенсионного возраста, — совсем другое. Такой, если и соврет чего для пущей мистификации, явной ерунды не расскажет. Интересно, а сколько сейчас Галине Иллириковне? Вот уже кто знал Брейгеля, так знал! Как родного! Так изучил, так старался понять! Нет, ей тогда уже было под полтинник. Точно умерла, точно. Забыли.
Еще вы спросите: он же нидерландец вроде как считается, при чем здесь немецкие школы, которые ты, Белковский, с похмелья упоминал?
А ответ ведь еще проще, чем пятна на Солнце. Немцы и голландцы суть одно. Особенно в Брейгелевы времена. Германское Deutsch и британское Dutch — почти синонимы. Это значит — народ. Голландцы — филиал немцев. И все они вместе — нидерландцы. Кажется, так объясняла мне учительница волхонского кружка при Пушкинском музее, Галина Иллириковна Шрамкова. Настоящий доктор искусствоведения.
И она же внушила мне одну наиважнейшую, особенно при сегодняшних обстоятельствах, истину. Никогда не сможет считаться настоящим, как Икар, специалистом по Брейгелю, прежде всего — Питеру Брейгелю-старшему, лох, который произносит эту художественную фамилию с «е» в первом слоге. Просто «БрЕйгель».
Нет. Произносить надо «Брёйгель». «Ё» в первом слоге. И не наше кислокапустное «ё», придуманное княгиней Дашковой по навету Державина, а их германское «о умлаут». «Ö» с двумя точками на голове. Как у Блока — «пора смириться, сёр».
Вот отрывок, я до сих пор наизусть помню.
На кресло у огня уселся гость устало, И пес у ног его разлегся на ковер. Гость вежливо сказал: «Ужель еще вам мало? Пред Гением Судьбы пора смириться, сöр».
Становишься перед зеркалом, где еще различим молодой не очень пьющий еврей, и говоришь глубокое «о», длинно вытягивая губы вперед, к стекловатной поверхности. Так и получается «о умлаут». О с двумя горизонтальными точками над головой. Семь раз тренируешься — и готов.
Так что Мушег, мой любезный, был ближе к истине, чем весь наш туристический плебс. Он говорит «Бригель», и это далеко от образца Галины Иллириковны Шрамковой. Но это уже бунт против фальшивой обыденности, и Мушег движется в правильном направлении. Заслуживая дать мне на две штуки больше, если я там не обнаружу любовника.
А я?..
Вдруг обнаружу. Скрыть? А как? Если, наоборот, разоблачится мой примитивный обман. Подумаю перед вылетом, но после встречи с гомеопатовой Софьей. До опохмела такие вещи в принципе не обсуждаются.
Хотя.
Что-то узнать о Брейгеле-старшем пополнее, чем знаю сейчас, божественно необходимо. А как? Где-то у меня была профильная книжка искусствоведа Алпатова. Но как ее найти? Я ведь мог забыть, потерять ее в баре или просто выронить из кармана войлочного пальто. В этом бардаке ничего уже не найдешь, даже грязных следов от дырявых ботинок.
Но есть такая вот еще опция. И Всемирная сеть за 600 рублей/мес. мне в помощь.
Как раз за углом от меня есть лекторий «Горбатая гора». Лучший на Москве, как считается. И там, по сообщению поисковой машины «Яндекс», нынче раз в два дня проводятся лекции про Брейгеля. Без «о умлаута» в анонсе, но все равно. Занятия специально для выезжающих в Вену. В три часа пополудни. Лектор — специально приглашенный венский профессор Фридрих Францевич Краузе. 67 лет. Языки: русский, немецкий.
И сегодня в 15:00 как раз русская лекция! Я пойду и узнаю все, что надо рассказать Софочке. Чтобы убедиться в ее павлиньей верности щедрейшему из Мушегов.
Почему они приводят возраст профессора, неясно, правда. Наверное, для солидности. Когда мальчишка какой читает про нидерландского мастера — это одно. Что он в жизни видел, этот салабон! А если и видел, то одну сплошную фигу эрогенного наполнения. Вот когда 67-летний ветеран, австрийский немец предпенсионного возраста, — совсем другое. Такой, если и соврет чего для пущей мистификации, явной ерунды не расскажет. Интересно, а сколько сейчас Галине Иллириковне? Вот уже кто знал Брейгеля, так знал! Как родного! Так изучил, так старался понять! Нет, ей тогда уже было под полтинник. Точно умерла, точно. Забыли.
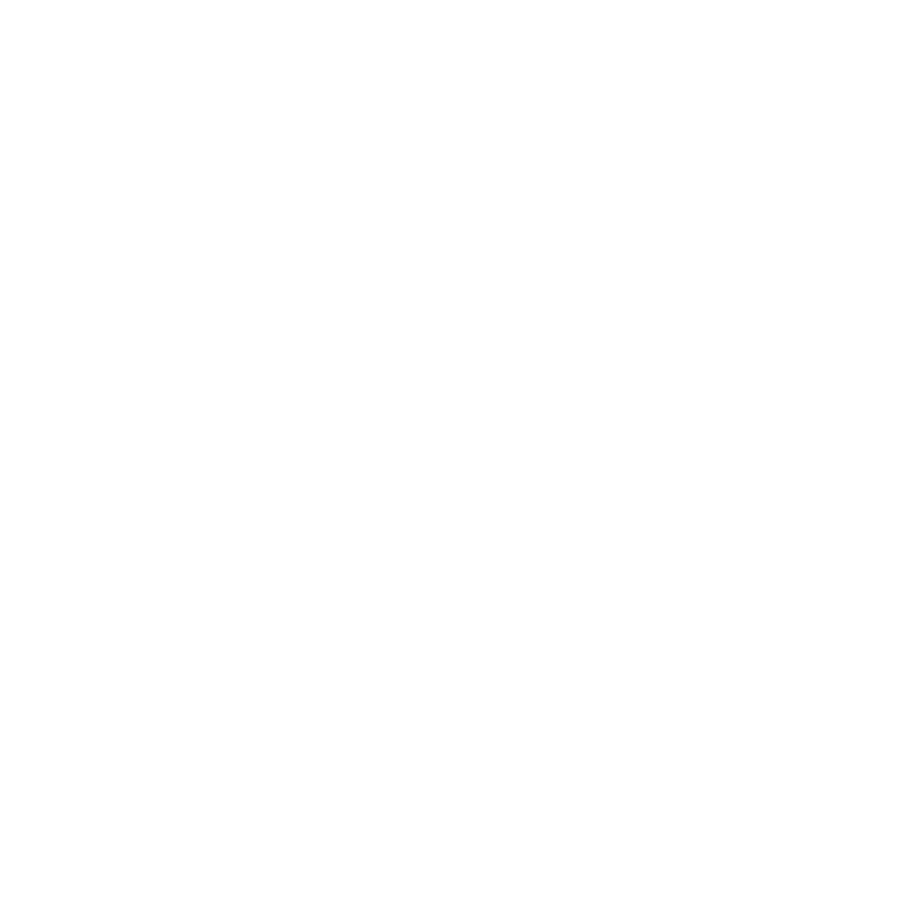
Вы спросите, почему лекторий «Горбатая гора». Я и сам улыбался, когда узнал. Основали его лет пятнадцать назад пидорасы. Да-да, не думайте, не условно-досрочные пидорасы, а настоящие геи из Калифорнии. То есть, конечно, наши геи, русско-еврейские. Уехавшие в Калифорнию в незапамятные времена, а в Россию вернувшиеся сразу после. И сделавшие первый на Москве мультимедийный зал для рассказывания всяких лекций. На умные темы. Самые популярные у них были: «Микеланджело. Взгляд на мужское тело»; «Оскар Уайлд. Любовь старшего к младшему»; «Никита Михалков. Секреты русского кастинга». Зал на Маяковке ломился от восторга. Но потом-то что выяснилось. А вот что. Пидорасы-то не просто лекторили, а вербовали нашу молодежь в свои сети. Гей-конвертингом занимались, другими словами. Проповедовали ценности однополой любви, и не только. Совращали прямо, можно сказать, не отходя от кассы лектория. По статистике, каждый третий мужчина РФ, посетивший не менее двух лекций в «Горбатой горе» за месяц, через полгода внятно переходил на ту сторону баррикад. Десятки семей рухнули, сотни жен и любовниц лишились надежной сексуальной подпитки.
Ну, и схлопнули этих пидорков наши гетеросексуальные менты. Центр «Э». Завели уголовку. Геи, правда, успели *** обратно в свою Калифорнию. Так как замначальника какой-то Центра «Э» все-таки оказался из ихних. Заднеприводных, как нынче говорит молодежь. Но не пропадать же знаменитому лекторию с его вызывающим брендом. И позвали туда вместо двух геев — нормальных русских баб. Одну — бывшую директрису ЦДЛ (Центральный дом литераторов, если кто уже не помнит), другую — креативного директора Казанского вокзала. И они уже отгрохали лекторий настоящий. Без глупостей. Про культуру и прочие нежности жизни.
Как подсказывает нам последний в сердцах неотключаемый Интернет, билет на проф. Ф. Ф. Краузе заявлен по цене 3000 руб. Можно, конечно, истребовать у Мушега аванс и полноправно оплатить. И сесть в третьем ряду эдаким заслуженным воином. Но. Во-первых, хрен где сейчас моего Мушега найдешь. Во-вторых, это было бы пОшло. А мы всегда gegen der Gemeinheit, как и было сказано.
Так что пойду просто так. На халяву. Вахтерша, она же страж и привратник, воительница и хранительница, фея и муза «Горбатой горы» — знает меня в лицо. Я зайду, небрежно брошу ей выражение «Сразу после» (мол, сразу после мероприятия заплачу, вы же не сомневаетесь) и прямо, не снимая пальто, прошмыгну в зал. А на выходе — ну, увлеку за собой профессора парой трогательных вопросов (типа, а почему не доехали до Вены «Немецкие пословицы» из Берлина? или все же доехали?) и вывалюсь через черный ход. Уверен, стражница-привратница не придаст этому значения. Она стара и сентиментальна, как медсестра в казенном доме. И выпивает она, кажется, тоже, а рыбак рыбаку глаз не выклюет.
Я опохмелился. Но не «Праздничной». Ее беречь надо. На преодоление стресса от Брейгель-лекции. А полбутылкою старого крымского шампанского. Уже почти издохшего, но еще-таки на коне. Я знаю, что надо говорить «игристое», но язык одеревенел от верных формулировок. И в Крыму бывает шампанское, особенно когда полуостров дрейфует на истерическую Родину, поверьте мне.
Я вышел. Галина Иллириковна Шрамкова преподавала мне, в чем суть Брейгеля-Брöгеля. А в том суть, что он внебрачный сын Иеронима Босха. Босх же придумал, что человек должен быть маленьким и страшным. То есть не Бог создал меня по образу и подобию своему, а типа дьявол. И в этой малости и страшноте я прекрасен. Словно создатель мой — Сатана. Говорят же — «красив, как черт». И в этом утверждении сосредоточено подлинно сексуальное. А вот когда «красив, как Бог» — здесь что-то не так. Нечто разве что гомосексуальное, как у основателей ГГ-лектория. Вот тебе Бог, а вот подвох — так учила меня, но не Галина Иллириковна, а собственная еврейская бабушка. У Микеланджело/Леонардо все-все на ф(м)анерные манекены похожи, а у Босха…
Кстати. Г-н Босх родился, вырос и помер в городе, названном в его же честь. Гертогенбосх. Что в переводе с нидерландского означает «Карфаген Босха». Привет первому Риму. Земле наших прадедов, за которую мы воевали.
И, нахватавшись у де-факто отца, Питер Брейгель-старший понял: босхианскую красоту надо тиражировать. Людишек должно становиться больше и больше, так и образуется дьявольски прекрасное человечество. Среди которого нескучно жить, а еще веселей — умирать. А мой фейворит — «Падение Икара»? Там утоплые ножки только божественные, а остальное — Босх light, как есть.
Вот какая пшенная каша у меня в голове. Крымское игристое — жуткое пойло. Но что есть, то есть. Зря все-таки я заблевал «Самоубийство Саула». Сдержался б тогда, после Сергиева Пассата, — жилось бы чуть легче.
Прорваться через привратницу удалось. Еще и случилось вспомнить, что зовут ее — Аглая Денисовна. Как одну из дочерей Достоевского, кажется.
Фридрих Францевич Краузе, какой всем обходится в три куска целковых, а мне вот практически бесплатно, уже минут семь как вещал. Впрочем. Позвольте, коллеги. Это ему 67? Полноте. 80, не меньше. Кожа тонкая, как первый лед на Патриаршем пруду. Пигментные пятна мезозойского образца. Да и весь старец похож на нечто мамврийское, но не дуб, а предсмертную, скорее, березку. Стонущую под взмахом летейского ветра. Голосок пискучий, как плач надгробного мальчика. Голова — точный череп Адама, с Голгофы. Я на Голгофе бывал, так что знаю о чем. Волосы еще есть, но представляется: вот вдруг откроется задняя дверь ГГ, устроится горбатый сквозняк — и сдует последние, одним нравственным порывом в обеденную даль унесет. Главное же: вцепился в трибуну (она же кафедра или парта), как блокадный генерал — в украденную горбушку. Верно, боится рухнуть со сцены в любую минуту. А если рухнет — то уж точно с распадом на мириады частиц. Как венецианская люстра с карнавального потолка. Не собрать.
В эту секунду я понял, как скучаю по 150 г «Праздничной». Что ж. Будем потерпеть. Брейгель вон тоже терпел под испанским владычеством, а теперь ему целый Кунстхисторишес Музеум (вы)дают.
Тем временем профессор рассказал о своем клиенте примерно следующее.
Ну, и схлопнули этих пидорков наши гетеросексуальные менты. Центр «Э». Завели уголовку. Геи, правда, успели *** обратно в свою Калифорнию. Так как замначальника какой-то Центра «Э» все-таки оказался из ихних. Заднеприводных, как нынче говорит молодежь. Но не пропадать же знаменитому лекторию с его вызывающим брендом. И позвали туда вместо двух геев — нормальных русских баб. Одну — бывшую директрису ЦДЛ (Центральный дом литераторов, если кто уже не помнит), другую — креативного директора Казанского вокзала. И они уже отгрохали лекторий настоящий. Без глупостей. Про культуру и прочие нежности жизни.
Как подсказывает нам последний в сердцах неотключаемый Интернет, билет на проф. Ф. Ф. Краузе заявлен по цене 3000 руб. Можно, конечно, истребовать у Мушега аванс и полноправно оплатить. И сесть в третьем ряду эдаким заслуженным воином. Но. Во-первых, хрен где сейчас моего Мушега найдешь. Во-вторых, это было бы пОшло. А мы всегда gegen der Gemeinheit, как и было сказано.
Так что пойду просто так. На халяву. Вахтерша, она же страж и привратник, воительница и хранительница, фея и муза «Горбатой горы» — знает меня в лицо. Я зайду, небрежно брошу ей выражение «Сразу после» (мол, сразу после мероприятия заплачу, вы же не сомневаетесь) и прямо, не снимая пальто, прошмыгну в зал. А на выходе — ну, увлеку за собой профессора парой трогательных вопросов (типа, а почему не доехали до Вены «Немецкие пословицы» из Берлина? или все же доехали?) и вывалюсь через черный ход. Уверен, стражница-привратница не придаст этому значения. Она стара и сентиментальна, как медсестра в казенном доме. И выпивает она, кажется, тоже, а рыбак рыбаку глаз не выклюет.
Я опохмелился. Но не «Праздничной». Ее беречь надо. На преодоление стресса от Брейгель-лекции. А полбутылкою старого крымского шампанского. Уже почти издохшего, но еще-таки на коне. Я знаю, что надо говорить «игристое», но язык одеревенел от верных формулировок. И в Крыму бывает шампанское, особенно когда полуостров дрейфует на истерическую Родину, поверьте мне.
Я вышел. Галина Иллириковна Шрамкова преподавала мне, в чем суть Брейгеля-Брöгеля. А в том суть, что он внебрачный сын Иеронима Босха. Босх же придумал, что человек должен быть маленьким и страшным. То есть не Бог создал меня по образу и подобию своему, а типа дьявол. И в этой малости и страшноте я прекрасен. Словно создатель мой — Сатана. Говорят же — «красив, как черт». И в этом утверждении сосредоточено подлинно сексуальное. А вот когда «красив, как Бог» — здесь что-то не так. Нечто разве что гомосексуальное, как у основателей ГГ-лектория. Вот тебе Бог, а вот подвох — так учила меня, но не Галина Иллириковна, а собственная еврейская бабушка. У Микеланджело/Леонардо все-все на ф(м)анерные манекены похожи, а у Босха…
Кстати. Г-н Босх родился, вырос и помер в городе, названном в его же честь. Гертогенбосх. Что в переводе с нидерландского означает «Карфаген Босха». Привет первому Риму. Земле наших прадедов, за которую мы воевали.
И, нахватавшись у де-факто отца, Питер Брейгель-старший понял: босхианскую красоту надо тиражировать. Людишек должно становиться больше и больше, так и образуется дьявольски прекрасное человечество. Среди которого нескучно жить, а еще веселей — умирать. А мой фейворит — «Падение Икара»? Там утоплые ножки только божественные, а остальное — Босх light, как есть.
Вот какая пшенная каша у меня в голове. Крымское игристое — жуткое пойло. Но что есть, то есть. Зря все-таки я заблевал «Самоубийство Саула». Сдержался б тогда, после Сергиева Пассата, — жилось бы чуть легче.
Прорваться через привратницу удалось. Еще и случилось вспомнить, что зовут ее — Аглая Денисовна. Как одну из дочерей Достоевского, кажется.
Фридрих Францевич Краузе, какой всем обходится в три куска целковых, а мне вот практически бесплатно, уже минут семь как вещал. Впрочем. Позвольте, коллеги. Это ему 67? Полноте. 80, не меньше. Кожа тонкая, как первый лед на Патриаршем пруду. Пигментные пятна мезозойского образца. Да и весь старец похож на нечто мамврийское, но не дуб, а предсмертную, скорее, березку. Стонущую под взмахом летейского ветра. Голосок пискучий, как плач надгробного мальчика. Голова — точный череп Адама, с Голгофы. Я на Голгофе бывал, так что знаю о чем. Волосы еще есть, но представляется: вот вдруг откроется задняя дверь ГГ, устроится горбатый сквозняк — и сдует последние, одним нравственным порывом в обеденную даль унесет. Главное же: вцепился в трибуну (она же кафедра или парта), как блокадный генерал — в украденную горбушку. Верно, боится рухнуть со сцены в любую минуту. А если рухнет — то уж точно с распадом на мириады частиц. Как венецианская люстра с карнавального потолка. Не собрать.
В эту секунду я понял, как скучаю по 150 г «Праздничной». Что ж. Будем потерпеть. Брейгель вон тоже терпел под испанским владычеством, а теперь ему целый Кунстхисторишес Музеум (вы)дают.
Тем временем профессор рассказал о своем клиенте примерно следующее.
Воспроизвожу по праздничной памяти, но подробно.
- Питер Брейгель-старший родился в 1525-м в зажиточной крестьянской семье. Потому его еще назвали «Мужицкий». Прямо при рождении и назвали. Господи, профессор говорит «БрЕйгель», без умлаута! О Галина Иллириковна, приди сюда и утрамбуй этого ничтожного дилетанта! До чего докатилось мое искусствоведение со времен заката волхонского кружка! Я уже молчу, что про подлинного отца, Иеронима Босха, — ни слова. Ну, так положено по современной политкорректности. Хотел бы оспорить, но не дерзну.
- Правда, профессор пищит с уловимым немецким акцентом. Это, в сущности, правильно. Наше провинциальное сознание любит акцент. Это я Мушегу еще объяснял, помните? Казус/прецедент В. В. Познера и т. п.
- Учился он — безумлаутный Брейгель, а не умирающий лектор — в Гаагском трибунале у придворного художника Лео ван дер Эльста. Сам же трибунал учредил император Карл Пятый в память о сыне Карле Четвертом, трагически погибшем на фазаньей охоте.
- В 1551 году принят в Гильдию живописцев. Там, на теплом и сухом складе, он увидел эстампы Иеронима Босха. Своего, в сущности, родного отца, о чем Фридрих Францевич и дальше умалчивает, старый ханжа-лицемер. Юный же (16-летний, совсем еще пацан) Питер *** эстампы и был таков. В смысле — потрясен масштабом папашиного творчества.
- В 1552 году Питер, чтобы скрыть хищения и отмазаться от трибунала, женился на дочери учителя ван дер Эльста. А в 1553-м — ломанулся в Италию. Вроде как пристроить отцовские эстампы. Гидом там, в Италии, у него был педераст (лектор этого прямо не утверждал, но и так понятно), некий Джулио Кловио. Показавший Бр(е)йгелю Флоренцию и Рим. Отвергнув ухаживания липкого Кловио, Питер-старший понял две, как минимум, истины. На самом деле, истин оказалось куда больше, но для целей данной лекции приоритетно выделим две.
- Ренессансные персонажи могут нравиться только геям. Вот почему почти все основные модельеры и модные фотографы — пидоры? А потому, что только такие могут оценивать женскую красоту объективно. Ибо субъективно у них не стоИт. А объективно — это, скажем, 90-60-90. Помните анекдот: «что такое 45-30-45»? Ответ: модель на полставки, ха-ха-ха.
- Делать надо как Босх. Везде и во всем — как Босх. Повторить отца не удастся. Но быть 0,75 от него — вполне. Если трудиться-трудиться-трудиться, как шахтер накануне Пасхи.
- А еще постиг италийский путешественник, наш мужицкий прелестник, что никогда нельзя писать заказных портретов. Иначе по гроб жизни не сможешь изобразить людей страшными и прекрасными одновременно. Какие они на самом деле и есть. И до полной физической смерти Брейгель, он же Брöгель не принимал заказов. На жизнь хватало и так. От продажи отцовых эстампов. Он сбагрил их во Флоренции ростовщику Эдмону Ростану де Ротшильду. (Хотя как жид мог превратиться в те годы в дворянина, тоже ясно не сразу.) И лишился необходимости когда бы то ни было думать о деньгах. А Ротшильд стал потом главным банкиром Европы. Но это другая история. Не для этой лекции.
- Еще наш герой никогда не писал обнаженку. А почему? Ну, по причинам, указанным еще в п. 5. Потому же, почему натурал не может быть модным фотографом. Может, но его тогда обязательно затрут и съедят. А зачем натуралу быть затертым и съеденным?
- Чтобы укрепиться в каноническом босхианстве, Питер пишет главные полотна дооккупационного периода — «Калеки», «Притча о слепых», «Мизантроп». Где люди предстают истинными детьми дьявола. Во всей их ликующей полноте.
- В 1565-м начинается испанская оккупация. Нидерланды переходят во власть герцога Альбы. Калеки и мизантропа с наклонностями слепого. Повсюду уничтожают еретиков, то есть протестантов. Так как испанцы с их герцогом Альбой — гребаные католики. Мать их ети. Брейгель не то чтобы протестант, он просто не любит Альбу. И посвящает ему картину «Избиение младенцев». Альба доволен.
- Зато недоволен Брейгель. Он хочет покинуть Родину и бежать в свободную Россию. Где протестантов уважают и принимают. Даже если они не вполне протестанты. Питер пишет письмо российскому правителю Ивану Четвертому (Грозному). Тот счастлив принять живописца. И обещает ему лучшие залы Третьяковской галереи, что на Крымском валу. А заодно пентхаус в Немецкой слободе, среди брейгелеподобных (премилых) уродов.
- Однако же в разгар подготовки к отъезду мастер неожиданно умирает. Официальная версия: Питер отравился полужидким ядом, которым обмазали ручку входной двери его дома в Антверпене. Подозревают испанцев. Альба, дескать, очень не хотел, чтобы лучший живописец его колонии, тайный сын Босха, явный ученик и зять ван дер Эльста, отбыл в Русь Православную, Русь Вселенскую, Русь Великую-и-Ужасную. В совершении теракта подозревали организацию «Белые носы» — такое себе главное разведывательное управление при испанском герцоге. Отсюда, кстати, международное слово «альбинос». Расследование зашло в тупик. Ясный нос. Иначе говоря, хрен.
- В России нет ни одной картины Питера Брейгеля-старшего. Потому торопитесь в Вену, пока работает выставка и билеты экономкласса еще позволяют себя купить.
Все.
Да, чуть не забыл. Многолетний Фридрих Францевич показывал картинки. Слайды, диапозитивы, как их там. Образы, им упомянутые. Питер-старший. Его жена. Ее отец ван дер Эльст. Босх. Кловио. Альба. Иван Грозный-Великий. Черти лысые.
Но чего там истинно не было — моих любимых. Главных для меня полотен. «Самоубийства Саула» и «Падения Икара». И как это, в сущности, понимать? Такого лекционного *** мир не видел до скончания волхонского кружка.
Итак, придем в чувство, то есть в себя. Ты, Белковский, — человек-чувство, как говорила мне (или не мне, а просто так) моя подруга Лаура. Постараемся задать вопросы, чтобы усыпить внимание Аглаи Денисовны, урожденной Ф. М. Достоевской.
Да, чуть не забыл. Многолетний Фридрих Францевич показывал картинки. Слайды, диапозитивы, как их там. Образы, им упомянутые. Питер-старший. Его жена. Ее отец ван дер Эльст. Босх. Кловио. Альба. Иван Грозный-Великий. Черти лысые.
Но чего там истинно не было — моих любимых. Главных для меня полотен. «Самоубийства Саула» и «Падения Икара». И как это, в сущности, понимать? Такого лекционного *** мир не видел до скончания волхонского кружка.
Итак, придем в чувство, то есть в себя. Ты, Белковский, — человек-чувство, как говорила мне (или не мне, а просто так) моя подруга Лаура. Постараемся задать вопросы, чтобы усыпить внимание Аглаи Денисовны, урожденной Ф. М. Достоевской.
Какие они (вопросы) могут быть? Ну, например.
- Почему ничего не рассказано о полотнах «Самоубийство Саула» и «Падение Икара»? Прямолинейно, зато в точку.
- Так все-таки — с умлаутом во втором слева слогу или без? Сложновато, зато хамовато.
- Известно ли профессору Краузе, что некий россиянин в минувшем десятилетии, первой декаде XXI века, заблевал в Кунстхисторишес Музеуме картину Питера-старшего? И если да, что это была за картина? И какова последующая судьба бедного россиянина?
- Чем лучше лететь — «Аэрофлотом» или «Остриан Эйрлайнз»? И если да, то наливают ли в экономклассе на халяву вино? Белое, красное или оба?
Что ж. Я человек видный, с хорошо поставленным жестом. Как начну тянуть руку, так от меня уж не уклониться. Любой модератор протянет мне микрофон. Хочет старик Ф.Ф. того или нет.
Хотя нет.
Все перечисленное — гниль, жижа, прокисшая перловка. А не вопросы лидера частного мнения и вообще узнаваемого ***.
Я знаю, что спрошу.
Вдруг стало понятно, почему лекторий «Горбатая гора» так настаивал на возрасте Фридриха. 67, да-да, и не годом больше. Когда ему 80, а то и хорошо за 80. В 67 таких пигментных пятен не бывает. И голосок не волнуется так по-цыплячьи. И Голгофа не пялится из разверстых залу глазниц.
Тут вот в чем дело. Они скрывают. Их лектор — нацистский преступник. Точней, член семьи нацистского преступника. ЧСНП, как нас учили в Музее имени Пушкина.
Сами посудите. Если он родился в 1951-м, как утверждается официально, то ни нацистским преступником, ни ЧСНП быть не может. Но если в 1938-м или раньше — а, быстрее всего, раньше — то, в смысле тогда …
Потому-то они и вообще вытащили вопрос возраста в анонс. Типичный проговор по Фрейду, как это у нас называют. Неужели гостей ГГ-лектория так интересует, сколько старику лет? Лишь бы не сдох во время выступления. А если даже сдохнет — какое лишнее шоу получится! Можно и приплатить.
И если Фридрих Францевич Краузе, родившийся не позднее 1938-го, а не в 1951-м, как нам пытаются втюхать бывшая директорка ЦДЛ и креативная директорка Казанского вокзала, то он в 1945-м, должно быть, убыл с родителями в Аргентину. Или какую-другую фашистскую страну Латинской Америки. Например, Парагвай. А вернулся только в шестидесятые, когда удалось выправить себе латинские документы и вообще все полузабылось. Хотя он Краузе, и фамилия осталась почти такой же немецкой. Но паспорт-то может быть аргентино-парагвайским, вполне.
Да. Так тому и быть. Я выведу латентного нациста на чистую воду. Это интересней, чем Брейгель со всеми его Босхом и Альбой. Тем паче что все главное для прогулки с Софочкой я от старика получил.
Вот он, голубой ГГ-микрофон. Дизайн лектория не менялся с уголовных времен калифорнийских пидоров.
— Простите, можно?
— Да-да, конечно. Представьтесь только, пожалуйста.
— Разумеется. Белковский, искусствовед, Москва. Простите, господин Краузе, вы жили когда-нибудь в Латинской Америке?
Профессор стал фиолетов. Его голгофский череп готовился прорвать последний рубеж человечьей кожи. Акцент выравнивал себя, как в бане, где все конгруэнтны.
— Я тринадцать лет провел в Аргентине. В моей ранней юности.
И, спохватившись, что его, ЧСНП с огромным опытом, поймали на дохлого червяка, с экспрессией, достойной пленного штандартенфюрера, выплеснул:
— А какое отношение это имеет к теме лекции?!
— Спасибо, спасибо, господин Краузе, я получил весь ответ на свежепоставленный вопрос.
Зал зашуршал. Кто-то смотрел завороженно, кто-то возмущался мне в спину. Уже все равно.
Ясно. Фридрих Францевич наш — нацист. Он спалился. Можно сообщить в ФСБ или даже министерство культуры. Но я не буду. Белковский великодушен, как Иван Великий в минуты созерцания Брейгеля.
Верной походкой двинулся я к Аглае Денисовне. Вахтерше, церберше, депозитарию «Горбатой горы».
— А вы знаете, Аглая Денисовна, что у вас лекцию сейчас читает нацист?
Хотя нет.
Все перечисленное — гниль, жижа, прокисшая перловка. А не вопросы лидера частного мнения и вообще узнаваемого ***.
Я знаю, что спрошу.
Вдруг стало понятно, почему лекторий «Горбатая гора» так настаивал на возрасте Фридриха. 67, да-да, и не годом больше. Когда ему 80, а то и хорошо за 80. В 67 таких пигментных пятен не бывает. И голосок не волнуется так по-цыплячьи. И Голгофа не пялится из разверстых залу глазниц.
Тут вот в чем дело. Они скрывают. Их лектор — нацистский преступник. Точней, член семьи нацистского преступника. ЧСНП, как нас учили в Музее имени Пушкина.
Сами посудите. Если он родился в 1951-м, как утверждается официально, то ни нацистским преступником, ни ЧСНП быть не может. Но если в 1938-м или раньше — а, быстрее всего, раньше — то, в смысле тогда …
Потому-то они и вообще вытащили вопрос возраста в анонс. Типичный проговор по Фрейду, как это у нас называют. Неужели гостей ГГ-лектория так интересует, сколько старику лет? Лишь бы не сдох во время выступления. А если даже сдохнет — какое лишнее шоу получится! Можно и приплатить.
И если Фридрих Францевич Краузе, родившийся не позднее 1938-го, а не в 1951-м, как нам пытаются втюхать бывшая директорка ЦДЛ и креативная директорка Казанского вокзала, то он в 1945-м, должно быть, убыл с родителями в Аргентину. Или какую-другую фашистскую страну Латинской Америки. Например, Парагвай. А вернулся только в шестидесятые, когда удалось выправить себе латинские документы и вообще все полузабылось. Хотя он Краузе, и фамилия осталась почти такой же немецкой. Но паспорт-то может быть аргентино-парагвайским, вполне.
Да. Так тому и быть. Я выведу латентного нациста на чистую воду. Это интересней, чем Брейгель со всеми его Босхом и Альбой. Тем паче что все главное для прогулки с Софочкой я от старика получил.
Вот он, голубой ГГ-микрофон. Дизайн лектория не менялся с уголовных времен калифорнийских пидоров.
— Простите, можно?
— Да-да, конечно. Представьтесь только, пожалуйста.
— Разумеется. Белковский, искусствовед, Москва. Простите, господин Краузе, вы жили когда-нибудь в Латинской Америке?
Профессор стал фиолетов. Его голгофский череп готовился прорвать последний рубеж человечьей кожи. Акцент выравнивал себя, как в бане, где все конгруэнтны.
— Я тринадцать лет провел в Аргентине. В моей ранней юности.
И, спохватившись, что его, ЧСНП с огромным опытом, поймали на дохлого червяка, с экспрессией, достойной пленного штандартенфюрера, выплеснул:
— А какое отношение это имеет к теме лекции?!
— Спасибо, спасибо, господин Краузе, я получил весь ответ на свежепоставленный вопрос.
Зал зашуршал. Кто-то смотрел завороженно, кто-то возмущался мне в спину. Уже все равно.
Ясно. Фридрих Францевич наш — нацист. Он спалился. Можно сообщить в ФСБ или даже министерство культуры. Но я не буду. Белковский великодушен, как Иван Великий в минуты созерцания Брейгеля.
Верной походкой двинулся я к Аглае Денисовне. Вахтерше, церберше, депозитарию «Горбатой горы».
— А вы знаете, Аглая Денисовна, что у вас лекцию сейчас читает нацист?
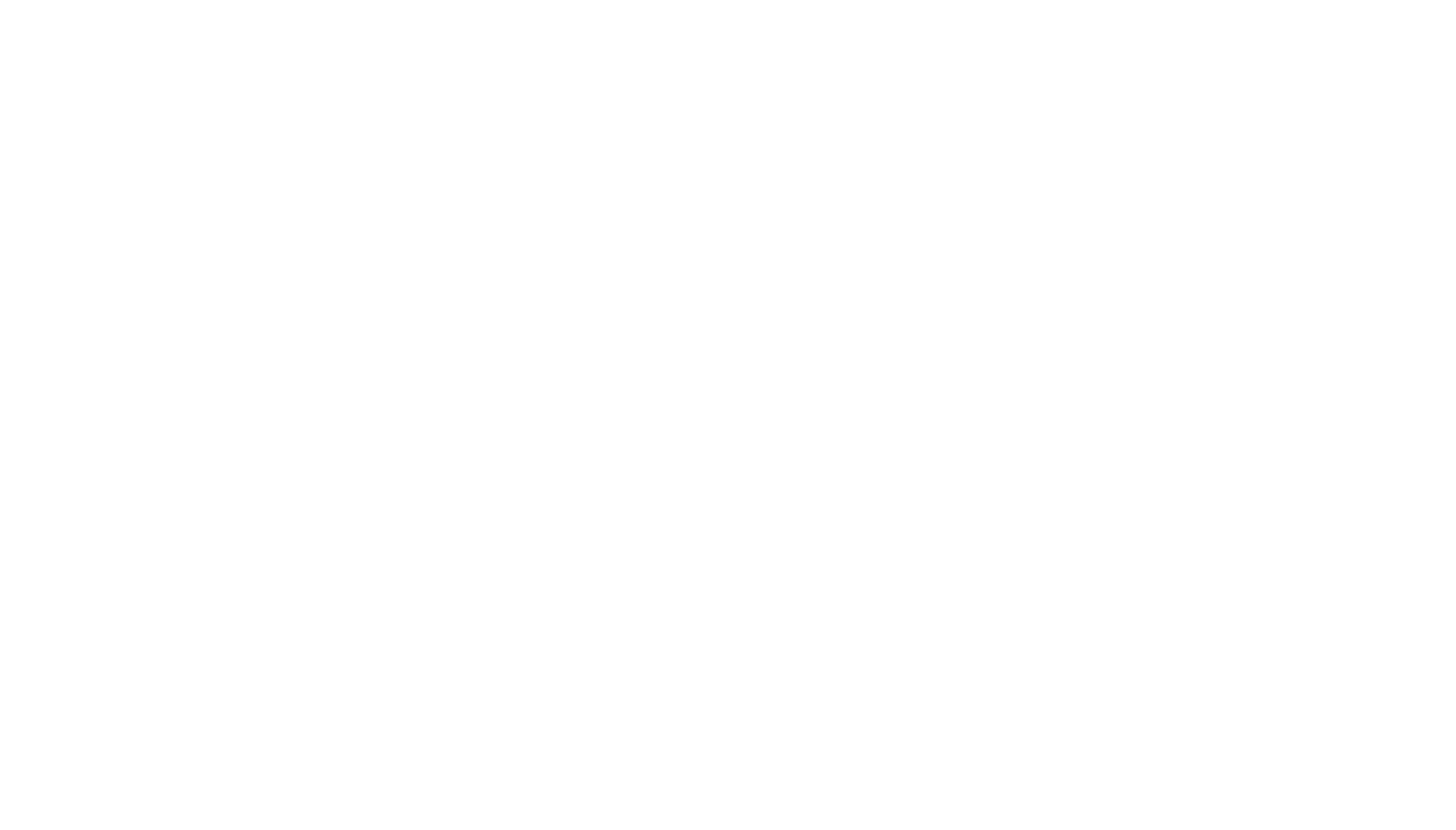
Привратница территории знаний не очень поняла, что говорится. Хотя была в возрасте и должна была слышать про нацизм еще очень давно. Но что дело швах, она постигла всем усилием гипсового лица. Всплеснула ли Аглая натренированными руками, не вспомню.
— Как, как? Ах? Что там происходит? Ах? Что случилось?
Она, видать, решила, что нацист — это форма драки. Или пожара. Что вполне справедливо. Адольф Гитлер любил пожары и драки. Это мы проходили.
И — Аглая рванула в зал спасать ситуацию.
Я ждал этого.
Вопрос о трех тысячах больше никогда и низачем не стоял.
Теперь можно было обязательно и срочно принять двести «Праздничной». Жизнь продолжается, как пастерначья строка.
— Как, как? Ах? Что там происходит? Ах? Что случилось?
Она, видать, решила, что нацист — это форма драки. Или пожара. Что вполне справедливо. Адольф Гитлер любил пожары и драки. Это мы проходили.
И — Аглая рванула в зал спасать ситуацию.
Я ждал этого.
Вопрос о трех тысячах больше никогда и низачем не стоял.
Теперь можно было обязательно и срочно принять двести «Праздничной». Жизнь продолжается, как пастерначья строка.
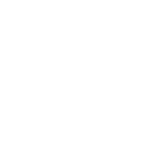
Софочка назначила мне в «Диптихе». Это через три квартала от «Маргариты». Тоже круто, но гораздо гламурнее.
«Диптих» основал Илиодор, новейший митрополит Петровский и Разумовский. В миру — Тенгиз Карлович Сулаквелидзе. Сын Тенгиза Сулаквелидзе, одного из последних лучших защитников советского футбола. Не спрашивайте меня, почему тогда Карлович, все равно не осмелюсь сказать.
Владыка Илиодор слыл гурманом (или как правильно — гурме?) духов. Духов и туалетных вод. В чем разница — до сих пор не знаю, да и какая? Когда я слышу «туалетные воды», представляется большое водохранилище, в котором разорвало все трубы канализации. Вешние туалетные воды. Лаванда, горная лаванда. Сколько лет прошло.
Сколько? N, может быть, М. Но не меньше. С тех пор, как я в последний (крайний) раз видел молодую блондинку. Потому нынче — волновался. И хряпнул с утра все же надежной «Праздничной». Тем больше, что крымское рвотное кончилось утром вчера. И альтернативы у меня не было. А когда ты безальтернативен — ты всецел. В политике, искусстве, любви, войне — и за их пределами.
Вот дверь «Диптиха», вороньим клювом нацеленная мне прямо в лоб. А вот и Софочка/Сонечка. Из рода гомеопатов донского Ростова. Ее узнаешь сразу. Волосы цвета японской пшеницы. Бюст размера g — ускорения свободного падения. Увидишь такое — и свободное падение начинается. А заканчивается оно — когда? Если бы знать, как писал своему сыну Питеру перед смертью (собственной, а не Питера) отец Иероним Босх. Не святой отец, а просто отец. Плотный и кровяной.
«Диптих» основал Илиодор, новейший митрополит Петровский и Разумовский. В миру — Тенгиз Карлович Сулаквелидзе. Сын Тенгиза Сулаквелидзе, одного из последних лучших защитников советского футбола. Не спрашивайте меня, почему тогда Карлович, все равно не осмелюсь сказать.
Владыка Илиодор слыл гурманом (или как правильно — гурме?) духов. Духов и туалетных вод. В чем разница — до сих пор не знаю, да и какая? Когда я слышу «туалетные воды», представляется большое водохранилище, в котором разорвало все трубы канализации. Вешние туалетные воды. Лаванда, горная лаванда. Сколько лет прошло.
Сколько? N, может быть, М. Но не меньше. С тех пор, как я в последний (крайний) раз видел молодую блондинку. Потому нынче — волновался. И хряпнул с утра все же надежной «Праздничной». Тем больше, что крымское рвотное кончилось утром вчера. И альтернативы у меня не было. А когда ты безальтернативен — ты всецел. В политике, искусстве, любви, войне — и за их пределами.
Вот дверь «Диптиха», вороньим клювом нацеленная мне прямо в лоб. А вот и Софочка/Сонечка. Из рода гомеопатов донского Ростова. Ее узнаешь сразу. Волосы цвета японской пшеницы. Бюст размера g — ускорения свободного падения. Увидишь такое — и свободное падение начинается. А заканчивается оно — когда? Если бы знать, как писал своему сыну Питеру перед смертью (собственной, а не Питера) отец Иероним Босх. Не святой отец, а просто отец. Плотный и кровяной.
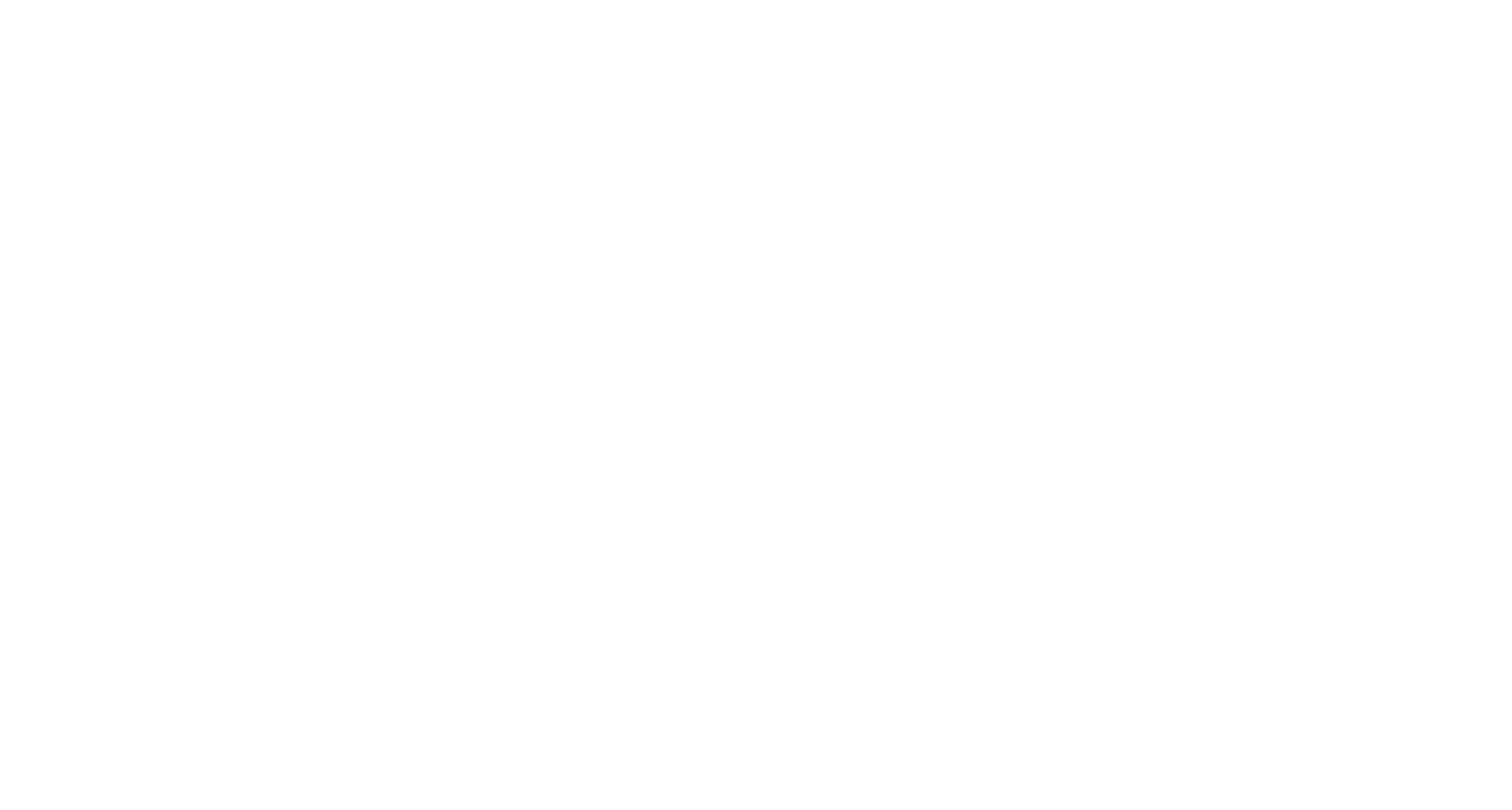
Софочка. Сонечка. Софья. Белый свитер Depeche Mode. Есть ли под ним лифчик? Черт разберет. И не старый черт, а молодой, с пронзительными глазами.
Облегающие штаны Asahi Shimbun. Тоже белые. Почти прозрачные. И вроде как с дырочками по внешним бокам. Чтобы видеть ее первозданную кожу. Гомеопат недаром сбагрил ее другу Мушегу. А то случился бы инцест с насилием, не ровен час. Или безо всякого насилия, по любви, еще более не ровен час. Гомеопата схватили бы и вернули в тюрьму. А Мушег не посмел бы жениться на его дочери. А что бы тогда делал я? Скинул бы дырявые боты и пошел по Патриаршим в носках. Последних, не доеденных тлением. Не хождение по водам, конечно, но тоже нехило. Фрикам позволено путешествовать во внешнем мире в носках. Никто бы не удивился и не расстроился. Хотя, если б тот же Дмитрий Евгеньевич явился людям в носках, они не посмели бы это обсуждать. В надежде на мелкие крохи от его миллиардов. Люди ждут исполнения своих предсказаний. Потому для них фрик не всегда отличается от миллиардера. В лучшую сторону. Ой, не всегда. И зачем тогда не иметь целых ботинок, спрошу я себя и вас?
В моем сознании нет ничего порнографического. Потому я не могу докладывать о любви и сексе. Мне нужен партнер, опытный писатель-порнограф. Но где его взять? Если я больше не могу заказывать за свой счет. Молодежь от меня разбежалась. А старики не выдерживают темпа страстного созерцания. И своего советского воспитания, конечно, тоже.
Так и Брейгель, наверное. Не писал портретов, особенно женских. И ни за что не связывался с обнаженкой. Как поведал нам ЧСНП проф. Краузе. 80 с гаком годков от роду. Значит, вчера я узнал, что чем-то важным похож на моего Брейгеля. А это уже очень много. Это уже — рождение надежды из пены пивной. Пиво недорогое, но совершенно, давно уже не берет. Тогда на кой оно?
Я твердо прошел вглубь земного удела Петровского и Разумовского. Улыбка у меня обаятельная до трех-четырех, я уверен. Когда она подкреплена прямыми глазами. Взглядом, вполне распознающим случайного (закономерного) собеседника.
— Софья?
О. Только не на ботинки. Не на! Пальтишко тоже куцеватое, но дырки там существенно внутри, и через них скалится на мир желтый, как сон, поролон. Я научился скрашивать это зрелище. Грамотным сниманием пальто и трамбованием в руках перед тем, как засунуть его под спинку стула.
В «Диптихе» посадочные места были без традиционных спинок. Спиральные и прозрачные.
— Вы Стасик?
Господи. И здесь я «Стасик». От в первый раз видящей меня телки. Да, телки авантажной, чего скрывать. Но это ей Мушег так сказал. Стасик — это очень трогательно, согласен. Как русский ежик или украинский щенок.
— Стасик, Стасик. Называйте. Вы знаете…
— Знаю. Мой муж просил вас съездить со мной в Вену и проверить, нет ли у меня любовника.
Я внутренне обалдел. Это что — армянское семейство меня разводит, что ли? Тестирует, насколько я все-таки идиот? А зачем? Ну если только перед Абрамян-проектом с арменизацией пожилого еврея. Но мы этот план даже еще не обсуждали. Так что же тогда, черт возьми? Я когда очень волновался, никогда не разговаривал матом. И пока не заполучу в партнеры нестарого писателя-порнографа, не верну себе интереса к отдельным терпким словам.
Бело-дырявая Софья, с неясными очертаниями небесного лифчика, не собиралась дать мне говорить. У нее была фраза, и она заканчивала ее изящно, как вылетает дым из фиктивной сигареты «Айкос».
— Стасик.
Это уменьшительно-ласкательное, оно же и трогательное, тянуло на отдельное процессуальное утверждение (заявление).
— Передайте Мушегу, пожалуйста. Вы же дружите. Он говорил. Да? Похоже на то. (Усмешка). Так передайте. Да, у меня есть любовник. Он полковник ВВС США. Летчик-истребитель. Служит в Германии, на базе Рамштайн. Ему 30 лет, рост метр девяносто два, вес восемьдесят пять. Сплошные мускулы. На животе кубики. Он и пригласил меня в Вену. Мы вместе с ним идем в музей на Брейгеля. Бригеля… — передразнила она 128-килограммового муженька. Уж если я Стасик, то пусть хоть он — муженек. Звучит почти как Мушегик или Мушежек, хотя и не с таким привкусом творожного молока.
Облегающие штаны Asahi Shimbun. Тоже белые. Почти прозрачные. И вроде как с дырочками по внешним бокам. Чтобы видеть ее первозданную кожу. Гомеопат недаром сбагрил ее другу Мушегу. А то случился бы инцест с насилием, не ровен час. Или безо всякого насилия, по любви, еще более не ровен час. Гомеопата схватили бы и вернули в тюрьму. А Мушег не посмел бы жениться на его дочери. А что бы тогда делал я? Скинул бы дырявые боты и пошел по Патриаршим в носках. Последних, не доеденных тлением. Не хождение по водам, конечно, но тоже нехило. Фрикам позволено путешествовать во внешнем мире в носках. Никто бы не удивился и не расстроился. Хотя, если б тот же Дмитрий Евгеньевич явился людям в носках, они не посмели бы это обсуждать. В надежде на мелкие крохи от его миллиардов. Люди ждут исполнения своих предсказаний. Потому для них фрик не всегда отличается от миллиардера. В лучшую сторону. Ой, не всегда. И зачем тогда не иметь целых ботинок, спрошу я себя и вас?
В моем сознании нет ничего порнографического. Потому я не могу докладывать о любви и сексе. Мне нужен партнер, опытный писатель-порнограф. Но где его взять? Если я больше не могу заказывать за свой счет. Молодежь от меня разбежалась. А старики не выдерживают темпа страстного созерцания. И своего советского воспитания, конечно, тоже.
Так и Брейгель, наверное. Не писал портретов, особенно женских. И ни за что не связывался с обнаженкой. Как поведал нам ЧСНП проф. Краузе. 80 с гаком годков от роду. Значит, вчера я узнал, что чем-то важным похож на моего Брейгеля. А это уже очень много. Это уже — рождение надежды из пены пивной. Пиво недорогое, но совершенно, давно уже не берет. Тогда на кой оно?
Я твердо прошел вглубь земного удела Петровского и Разумовского. Улыбка у меня обаятельная до трех-четырех, я уверен. Когда она подкреплена прямыми глазами. Взглядом, вполне распознающим случайного (закономерного) собеседника.
— Софья?
О. Только не на ботинки. Не на! Пальтишко тоже куцеватое, но дырки там существенно внутри, и через них скалится на мир желтый, как сон, поролон. Я научился скрашивать это зрелище. Грамотным сниманием пальто и трамбованием в руках перед тем, как засунуть его под спинку стула.
В «Диптихе» посадочные места были без традиционных спинок. Спиральные и прозрачные.
— Вы Стасик?
Господи. И здесь я «Стасик». От в первый раз видящей меня телки. Да, телки авантажной, чего скрывать. Но это ей Мушег так сказал. Стасик — это очень трогательно, согласен. Как русский ежик или украинский щенок.
— Стасик, Стасик. Называйте. Вы знаете…
— Знаю. Мой муж просил вас съездить со мной в Вену и проверить, нет ли у меня любовника.
Я внутренне обалдел. Это что — армянское семейство меня разводит, что ли? Тестирует, насколько я все-таки идиот? А зачем? Ну если только перед Абрамян-проектом с арменизацией пожилого еврея. Но мы этот план даже еще не обсуждали. Так что же тогда, черт возьми? Я когда очень волновался, никогда не разговаривал матом. И пока не заполучу в партнеры нестарого писателя-порнографа, не верну себе интереса к отдельным терпким словам.
Бело-дырявая Софья, с неясными очертаниями небесного лифчика, не собиралась дать мне говорить. У нее была фраза, и она заканчивала ее изящно, как вылетает дым из фиктивной сигареты «Айкос».
— Стасик.
Это уменьшительно-ласкательное, оно же и трогательное, тянуло на отдельное процессуальное утверждение (заявление).
— Передайте Мушегу, пожалуйста. Вы же дружите. Он говорил. Да? Похоже на то. (Усмешка). Так передайте. Да, у меня есть любовник. Он полковник ВВС США. Летчик-истребитель. Служит в Германии, на базе Рамштайн. Ему 30 лет, рост метр девяносто два, вес восемьдесят пять. Сплошные мускулы. На животе кубики. Он и пригласил меня в Вену. Мы вместе с ним идем в музей на Брейгеля. Бригеля… — передразнила она 128-килограммового муженька. Уж если я Стасик, то пусть хоть он — муженек. Звучит почти как Мушегик или Мушежек, хотя и не с таким привкусом творожного молока.
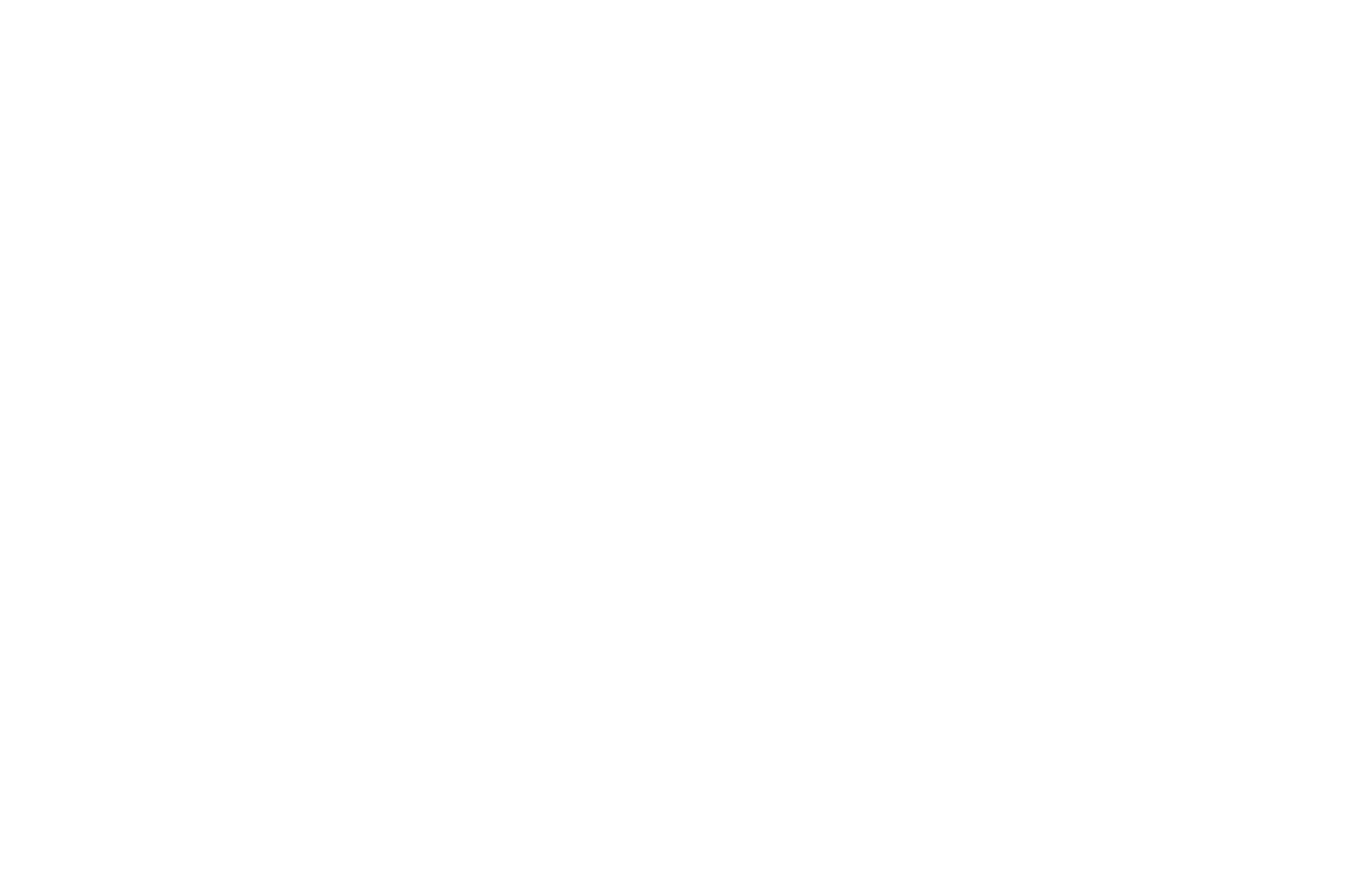
Вердикт звенел в моих ушах решением трибунала, сдуру отпустившего замуж в Италию мастера Брейгеля. Эх, почему я никогда не сумел *** офорты Босха? Всего лишь из-за того, что я не был его сыном? Не знаю.
— Стасик. Никакие другие провожатые на выставку мне не нужны. И экскурсоводы не нужны тоже. Отдыхайте, Стасик. Хорошего вам, здорового дня!
Последнее был намек на мою запойную ряху.
И — она выскочила из диптиха, как фирменная пробка — из бутылки Louis Vuitton.
Нет, она не худенькая. Но скачет быстро, особенно как приспичит.
Армяне не обожают худеньких. Там же у них горы, камни, костры. Совсем тощим трудновато выжить. Надо еще подумать, прежде чем вступать в игру с Абрамяном. С «Праздничной» на «Ноя» — это одно, а вот поправляться… Тьфу, это же не худеть. Что же я себе-то морочу голову. А кому еще, с другой стороны?
Я по-прежнему сидел за диптиховым столом. И давал официантам любоваться моими трехдырчатыми колесами. Официантам, ибо заведение было пустым, как гроб Иисуса по воскрешении.
— Стасик. Никакие другие провожатые на выставку мне не нужны. И экскурсоводы не нужны тоже. Отдыхайте, Стасик. Хорошего вам, здорового дня!
Последнее был намек на мою запойную ряху.
И — она выскочила из диптиха, как фирменная пробка — из бутылки Louis Vuitton.
Нет, она не худенькая. Но скачет быстро, особенно как приспичит.
Армяне не обожают худеньких. Там же у них горы, камни, костры. Совсем тощим трудновато выжить. Надо еще подумать, прежде чем вступать в игру с Абрамяном. С «Праздничной» на «Ноя» — это одно, а вот поправляться… Тьфу, это же не худеть. Что же я себе-то морочу голову. А кому еще, с другой стороны?
Я по-прежнему сидел за диптиховым столом. И давал официантам любоваться моими трехдырчатыми колесами. Официантам, ибо заведение было пустым, как гроб Иисуса по воскрешении.
Только два вопроса. Нацист Краузе получил один и сэкономил мне 3000 руб. А теперь целых два.
- Она меня ничем не угостила. А я планировал хотя бы тройной «Джеймисон» со льдом. И что теперь? Как восполнить квоту «Праздничной», преждевыбранную с утра? Да и моральный, он же политический, аспект здесь важнее. Вот уже L лет, не М и даже не N, как меня не динамила с выпивкой приглашающая сторона. Что про меня отныне подумают студенты, если бы они у меня были? Отказ дать мне выпить — это куда как больше, чем милая жадность. Это покушение на мой goodwill. Прямой урон рыночной капитализации Белковского. Кто это компенсирует? Полковник ВВС с базы Рамштайн? Он-то, небось, скупердяй, как все американские офицеры старшего извода. Если кто читал Джона Стюарта Грилля. Как читал его я. До нервной степени, до стадий самозабвения и побега.
- Что же — путешествие через Мушега тоже срывается? Я остаюсь без Вены? Моего Питера-старшего? Без мести за скандальный запрет посещать Музеум всегда, когда пожелается? Без пяти пар ботинок и шерстяного шарфа?
Нет. По пункту 2 — однозначное нет. Я окажусь там во что бы то ни стало. Неважно, что сделают безответный Дмитрий Евгеньевич, безотчественный Мушег и/или черт горбатый, как гора. Все только начинается.
И клок этой нежной шерсти мне тоже необходим.
И клок этой нежной шерсти мне тоже необходим.
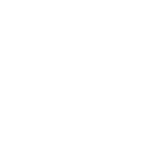
Я каждый день бродил по Патриаршим прудам. Нет, не то чтобы по воде или даже ледяной поверхности, а — по суше, строго вокруг.
И я никогда не выходил на такую прогулку трезвым. Ибо, когда ты трезв, над землей безраздельно властвует зло.
Но дело даже не в этом.
Я боялся встретиться там с Лаурой. Она ведь тоже любила вращаться моими прудами. Я приучил ее и ни за что не успел отучить.
Прошло пятнадцать лет. Тогда я был молод, и моя бессмысленность только начиналась. Но я не замечал своего простого финала. Тратил последние деньги, полученные от избрания мэра города Сергиев Фасад. Блевать хотел на мужицкого Брейгеля с его мещанской Альбой. Я думал, жизнь пойдет-пойдет, как лошадка в тире. Жестяное изделие, которое сбиваешь ты крошечной пулей и радуешься о последствиях. Нимало не понимая их.
За теми пределами и существовала Лаура.
Босх и Брейгель все же не правы — бывает красота божеского, а вовсе не дьявольского происхождения.
Волосы были длинные, рыжие и кудрявые. Но их нельзя назвать рыжими. Они светлые, как банкирское золото, утрамбованное шампанским.
Интересно, с каких времен я не пил шампанского? Когда прекратил? Нет, не в день позорной смерти лорда Нельсона Трафальгарского, когда навсегда просрочил дедлайн. Раньше. Раньше. И теперь уже все. Даже на Новый год, закрывшись в чертоге андроповской реставрации, один на один с собой и снежной ночью, я пью детское (безалкогольное) игристое. Разбавляя его водкой «Праздничная», дабы не избежать прихода. Когда я ночью жду etc.
«У всех шампанское, у меня заменитель», — так говорил другой узнаваемый пьяница, Борис Ельцин, в свой последний президентский прием. С 31 декабря 1999-го на 1 января 2000-го. У всех жизнь, а у меня заменитель, так было бы еще верней.
Представляю, как Босх и сын его боялись Боттичелли. Во-первых, потому, что тот был гей. И как раз поэтому умел делать совершенных женщин. Мы же помним наше базовое рассуждение: только геи умеют определять объективно женскую красоту.
Черт побери. Гертогенбосх должен быть разрушен. Это говорю вам я, полный человек из Древнего Рима.
Или — ровно наоборот. От перемены мест разрушаемого суть обсуждения не меняется.
В сущности, вся история искусств — это борьба Карфагена с Римом. Коалиции Босха — Брейгеля против партии Боттичелли — Буонарроти. Вот что я знаю.
Нидерландские протестанты — они про бизнес и деньги. Потому им можно поручить дизайн бумажных купюр. И даже медных монет. Тогда люди испугаются денег и хоть на эпоху опомнятся.
А италийские католики — они про любовь и смерть. Потому им надо заказать эскизы свидетельств о рождестве. И о смерти. И бланки брачных контрактов. Чтобы люди хоть на эпоху отвлеклись на нечто нематериальное.
Северные натуралы видят себя — и нас — такими, какие мы есть. Южные пидорасы — такими, какими они — и мы — хотели бы выглядеть. Босх и Брейгель — это Ричард Милхаус Никсон (квакер). Боттичелли и Буонарроти — Джон Фитцжеральд Кеннеди (понятно, католик).
Такая вот война миров, она же судьба изящных искусств.
Если б я остался при волхонском кружке и слушал бы Галину Иллириковну, то был бы сейчас полноценным доктором искусствоведения. Но я слишком торопился в пути за славой. Это никогда не приветствуется.
И еще я помню, что писатель Пруст, который главный кумир всех пидорасов, имел обсессию на фреску Боттичелли из Сикстинской капеллы: Сепфору, дочь Иофора. А Сепфора — между прочим, не простой бабец, а бывшая жена самого Моисея, гипервождя еврейского народа. Еще говорили, что она негритянка, но на фреске этого совсем не видно. Разве что очень бледная негритянка, разволнованная от странствий мужа. Но в таком случае волосы ее — крашеные. А вождь Моисей, насколько я его знаю, никогда бы подобного не допустил. Так что нет, не негритянка. Не афроеврейка, как надо говорить в эпоху политкорректности. Хотя, если помнить книжку Алпатова, ныне затерянную в андроповом бардаке, она и не еврейка, а, скорее, египтянка-язычница. В общем, резюмируя: НЕ афроязычница, остальное не так существенно.
И сверх того знаю, что любое цитирование Пруста, прямое или косвенное, — признак уголовной пошлости, переходящий в рецидивизм. Особенно если ты Пруста вовсе и не читал.
Но когда ты совершенно один, можешь не бояться пошлости. Никакой человек, такой же мудозвон, как ты сам, ее не услышит. А в Боге пошлости нет. Keine Gemeinheit ueberhaupt.
Почему же я за 15 лет не встретил Лауру? Потому что боялся. Что мы увидим друг друга такими, как есть на самом деле. Я спился и умер. А у нее появилось шесть детей. Не знаю откуда, но появилось. Или надо говорить появилИсь, в истинно множественном числе?
У нее росла маленькая грудь. Она смеялась: если ты видел флорентийских красавиц времен Боттичелли, — они же все малогрудые. Институт груди не был так важен для средневековой Италии. Другие демократические институты, но не этот. Господи, какой изящный порнограф умирает во мне!
И я никогда не выходил на такую прогулку трезвым. Ибо, когда ты трезв, над землей безраздельно властвует зло.
Но дело даже не в этом.
Я боялся встретиться там с Лаурой. Она ведь тоже любила вращаться моими прудами. Я приучил ее и ни за что не успел отучить.
Прошло пятнадцать лет. Тогда я был молод, и моя бессмысленность только начиналась. Но я не замечал своего простого финала. Тратил последние деньги, полученные от избрания мэра города Сергиев Фасад. Блевать хотел на мужицкого Брейгеля с его мещанской Альбой. Я думал, жизнь пойдет-пойдет, как лошадка в тире. Жестяное изделие, которое сбиваешь ты крошечной пулей и радуешься о последствиях. Нимало не понимая их.
За теми пределами и существовала Лаура.
Босх и Брейгель все же не правы — бывает красота божеского, а вовсе не дьявольского происхождения.
Волосы были длинные, рыжие и кудрявые. Но их нельзя назвать рыжими. Они светлые, как банкирское золото, утрамбованное шампанским.
Интересно, с каких времен я не пил шампанского? Когда прекратил? Нет, не в день позорной смерти лорда Нельсона Трафальгарского, когда навсегда просрочил дедлайн. Раньше. Раньше. И теперь уже все. Даже на Новый год, закрывшись в чертоге андроповской реставрации, один на один с собой и снежной ночью, я пью детское (безалкогольное) игристое. Разбавляя его водкой «Праздничная», дабы не избежать прихода. Когда я ночью жду etc.
«У всех шампанское, у меня заменитель», — так говорил другой узнаваемый пьяница, Борис Ельцин, в свой последний президентский прием. С 31 декабря 1999-го на 1 января 2000-го. У всех жизнь, а у меня заменитель, так было бы еще верней.
Представляю, как Босх и сын его боялись Боттичелли. Во-первых, потому, что тот был гей. И как раз поэтому умел делать совершенных женщин. Мы же помним наше базовое рассуждение: только геи умеют определять объективно женскую красоту.
Черт побери. Гертогенбосх должен быть разрушен. Это говорю вам я, полный человек из Древнего Рима.
Или — ровно наоборот. От перемены мест разрушаемого суть обсуждения не меняется.
В сущности, вся история искусств — это борьба Карфагена с Римом. Коалиции Босха — Брейгеля против партии Боттичелли — Буонарроти. Вот что я знаю.
Нидерландские протестанты — они про бизнес и деньги. Потому им можно поручить дизайн бумажных купюр. И даже медных монет. Тогда люди испугаются денег и хоть на эпоху опомнятся.
А италийские католики — они про любовь и смерть. Потому им надо заказать эскизы свидетельств о рождестве. И о смерти. И бланки брачных контрактов. Чтобы люди хоть на эпоху отвлеклись на нечто нематериальное.
Северные натуралы видят себя — и нас — такими, какие мы есть. Южные пидорасы — такими, какими они — и мы — хотели бы выглядеть. Босх и Брейгель — это Ричард Милхаус Никсон (квакер). Боттичелли и Буонарроти — Джон Фитцжеральд Кеннеди (понятно, католик).
Такая вот война миров, она же судьба изящных искусств.
Если б я остался при волхонском кружке и слушал бы Галину Иллириковну, то был бы сейчас полноценным доктором искусствоведения. Но я слишком торопился в пути за славой. Это никогда не приветствуется.
И еще я помню, что писатель Пруст, который главный кумир всех пидорасов, имел обсессию на фреску Боттичелли из Сикстинской капеллы: Сепфору, дочь Иофора. А Сепфора — между прочим, не простой бабец, а бывшая жена самого Моисея, гипервождя еврейского народа. Еще говорили, что она негритянка, но на фреске этого совсем не видно. Разве что очень бледная негритянка, разволнованная от странствий мужа. Но в таком случае волосы ее — крашеные. А вождь Моисей, насколько я его знаю, никогда бы подобного не допустил. Так что нет, не негритянка. Не афроеврейка, как надо говорить в эпоху политкорректности. Хотя, если помнить книжку Алпатова, ныне затерянную в андроповом бардаке, она и не еврейка, а, скорее, египтянка-язычница. В общем, резюмируя: НЕ афроязычница, остальное не так существенно.
И сверх того знаю, что любое цитирование Пруста, прямое или косвенное, — признак уголовной пошлости, переходящий в рецидивизм. Особенно если ты Пруста вовсе и не читал.
Но когда ты совершенно один, можешь не бояться пошлости. Никакой человек, такой же мудозвон, как ты сам, ее не услышит. А в Боге пошлости нет. Keine Gemeinheit ueberhaupt.
Почему же я за 15 лет не встретил Лауру? Потому что боялся. Что мы увидим друг друга такими, как есть на самом деле. Я спился и умер. А у нее появилось шесть детей. Не знаю откуда, но появилось. Или надо говорить появилИсь, в истинно множественном числе?
У нее росла маленькая грудь. Она смеялась: если ты видел флорентийских красавиц времен Боттичелли, — они же все малогрудые. Институт груди не был так важен для средневековой Италии. Другие демократические институты, но не этот. Господи, какой изящный порнограф умирает во мне!
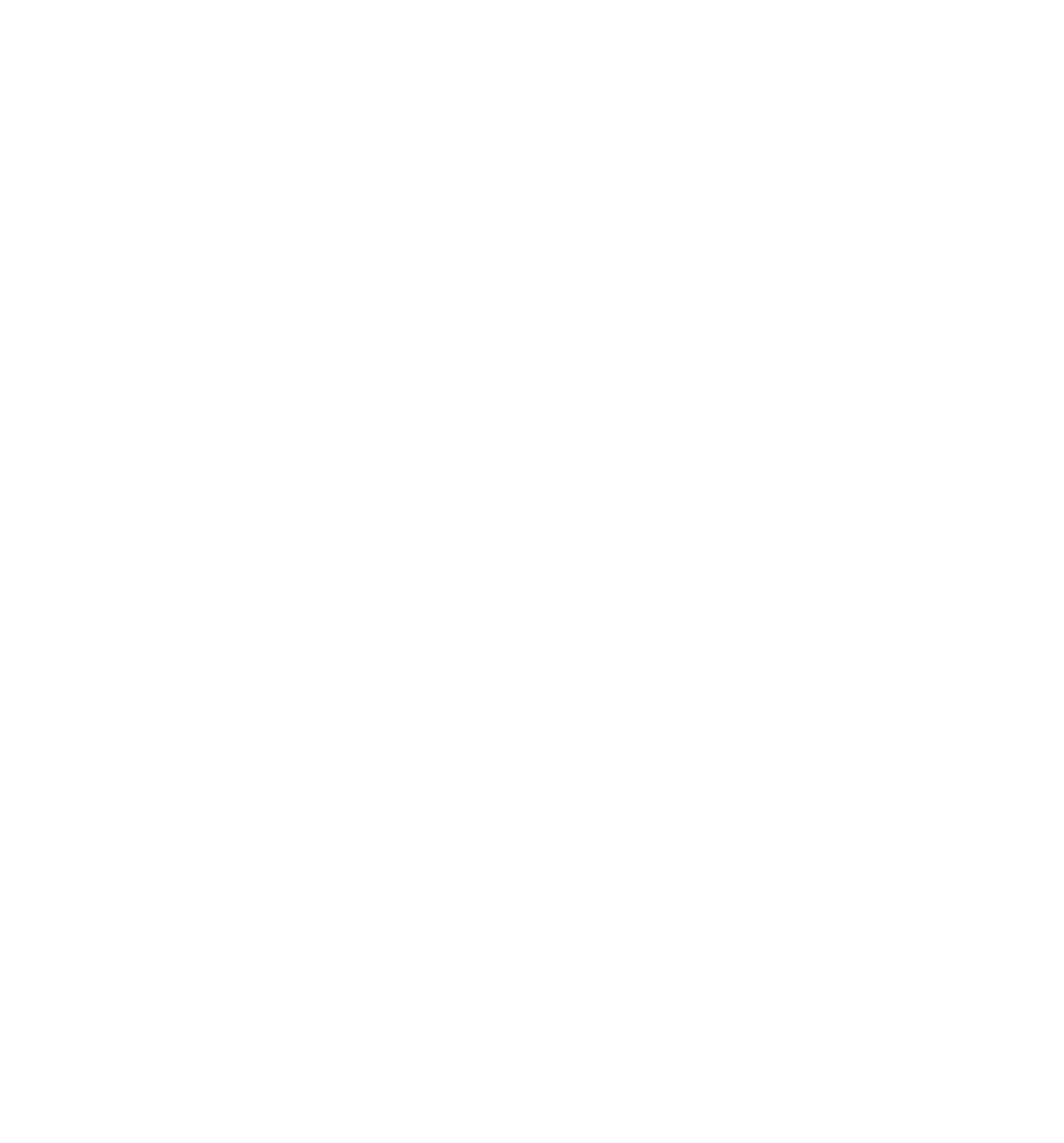
Кстати, для верующего человека важно говорить «Господи», а никогда не «Боже». «Боже» — пошлость. Я всегда боролся с пошлостью, а значит, споспешествовал планам Хозяина. Компенсирует ли он мою хоть отчасти борьбу? Узнаем уже скоро, у разомкнутых врат Кунстмузеума.
Лаура носила мешковатые комбинезоны и свитеры с русской надписью «Ту секси фор ю». Так оно и обстояло. Ту секси. Хотя бестелесная красота не бывает секси. А ту секси — бывает.
Нынче я повернул в Малый Палашевский переулок. Между прочим, у нас тут недалеко есть Чебуречная СССР. Где молдавский коньяк идет по цене «Праздничной». А под закусон — бутерброды с салями и балыком. Не рискнут ли они делать нон-стоп вечеринку на Святого Сильвестра? Я бы пришел. Я ветеран, мне во всем положена скидка.
Я ковылял. И навстречу мне двигалась она. Неотвратимо. Толстая (килограмм не менее девяноста) женщина, облезлая, как мое пальтишко со стороны изнутри. В конически-цилиндрическом шушуне. С носом первого класса на том, что когда-то было ее лицом (с). С неопределенно-личной улыбкой памяти коньячного спирта. В мохеровом платке, какой не носила бы и моя бабушка. С тележкой-авоськой, где что-то гремело, как металлоискатель в преддвериях больших боссов.
Грета. Она.
Поцелуемся?
От нее не пахнет бухлом. Хотя она выпила. Не так, как я. Но безболезненно и уверенно. 0,5 водки, не меньше. Но разит наповал палеными сигаретами. Контрафакт. Я всегда узнавал запах табака достовернее алкогольного. И быстрее. Меня отравила та самая бабушка. Которая курила Стасику прямо в лицо, когда завязывала резиночки буденновской шапки. Синей треуголки из холодного воска. Потому я в жизни никогда не курил. Меня это не спасло. Мне это не помогло. Многих выручило, но не Стасика.
— Как дела вообще, Гретхен?
— Лучше многих, Белковский. Ты встречаешь меня всегда, когда стремаешься видеть Лауру?
— Я встречаю тебя всегда, когда боюсь увидеть Лауру.
— Ты не увидишь ее. Признайся, что никогда ее не было.
Зато кашель курильщика точно ведь существует. И вперемешку со смехом — втройне.
— Что ты здесь делаешь, Гретхен?
— Иду к тебе, Белковский. К тебе домой.
— Зачем, Гретхен?
— За сковородкой.
— Какой сковородкой?
— Той, что я забыла у тебя. Когда мы изредка жили вместе. Ты жаришь себе нюрнбергские колбаски, а я который год без сковороды.
— Но я не умею ничего жарить. Ты разве не помнишь? У меня была микроволновка. СВЧ-печь, подаренная фанатами. Но и она сгорела. Я ем только холодный плавленый сыр.
— Не морочь мне голову, старый мудила. Ты врешь даже плотней, чем всегда. Мы прямо сейчас пойдем к тебе в твое зассанное логово, и я ее заберу. И скажи спасибо, если я не разобью ею твою бессмысленную башку.
— Ты совсем сошла с ума, Грета?
— Да. Совсем. А что? Ты тоже когда-то казался умным. Сколько лохов купились на это первое впечатление.
— Откуда у меня может быть твоя сковородка?
— Все, что у тебя есть, от меня. И она тоже. У тебя нет только Лауры. Я тебе ее в жизни не приводила. Ты ее сочинил. И не говори обратного.
— Я скажу обратное.
— Не говори.
— Лаура была. И есть. Во плоти.
— Нет.
— Да.
— Тогда я скажу тебе, что у нее 11 детей. Доволен?
— Каких еще одиннадцать, старуха? Было же шесть.
— Ты уже торгуешься, Белковский. Какая ты все-таки мразь. Почему я тебя раньше не убила бутылкой виски! Твой хлипкий череп никогда бы ее не выдержал.
— Виски.
— Да. Одиннадцать.
— Грета, ступай к себе. Становится слишком холодно.
— Я иду к тебе, сученыш. Ты собираешься к Брейгелю?
— Откуда… Нет, я не то хотел сказать.
— То-то. Ты ничего скрыть не умеешь. Как и раньше. Скорее бы у тебя от водки язык отсох. Пошли-пошли. Ты думаешь, я что-то забыла? Помню и маршрут, и дистанцию. Лучше, чем ты, жалкий поц.
— У меня нет твоей сковородки.
— Есть. А где же она, если не в твоей заблеванной хате?
— Где ей и положено быть.
— Где?
— У чертей. В аду. Все лучшие сковородки всегда у них.
— Я к ним заглядывала. Там только одна. На ней жарят моего младенца, к которому ты не имеешь никакого отношения. Ты просто старый импотент. Да ты и молодым был такой. Пошли.
— И эта одна — не твоя.
— Нет. В аду не лгут. Так, как ты, врут только на Патриаршем пруду, будь он проклят.
— Нет. Мы не пойдем.
— Как не пойдем? Наглость потерял, сучара?
Я возвел взгляд вертикально. В долгом окне, среди столкновения лилий, прямо над немым салоном тайского массажа, была Лаура. Она стояла отвесно, но с полупоклоном. Словно Евгений Онегин женского рода. Владимир Бельтов дамского образца. Детские тени увивались вокруг нее. Я захотел позвать на помощь, но больше не смог.
Я просто побежал. 106 изъезженных килограмм трепыхались во мне. Грета не догонит меня. Она не бросит свою тележку. А без тележки я быстрее. Как бы она ни старалась.
Лаура носила мешковатые комбинезоны и свитеры с русской надписью «Ту секси фор ю». Так оно и обстояло. Ту секси. Хотя бестелесная красота не бывает секси. А ту секси — бывает.
Нынче я повернул в Малый Палашевский переулок. Между прочим, у нас тут недалеко есть Чебуречная СССР. Где молдавский коньяк идет по цене «Праздничной». А под закусон — бутерброды с салями и балыком. Не рискнут ли они делать нон-стоп вечеринку на Святого Сильвестра? Я бы пришел. Я ветеран, мне во всем положена скидка.
Я ковылял. И навстречу мне двигалась она. Неотвратимо. Толстая (килограмм не менее девяноста) женщина, облезлая, как мое пальтишко со стороны изнутри. В конически-цилиндрическом шушуне. С носом первого класса на том, что когда-то было ее лицом (с). С неопределенно-личной улыбкой памяти коньячного спирта. В мохеровом платке, какой не носила бы и моя бабушка. С тележкой-авоськой, где что-то гремело, как металлоискатель в преддвериях больших боссов.
Грета. Она.
Поцелуемся?
От нее не пахнет бухлом. Хотя она выпила. Не так, как я. Но безболезненно и уверенно. 0,5 водки, не меньше. Но разит наповал палеными сигаретами. Контрафакт. Я всегда узнавал запах табака достовернее алкогольного. И быстрее. Меня отравила та самая бабушка. Которая курила Стасику прямо в лицо, когда завязывала резиночки буденновской шапки. Синей треуголки из холодного воска. Потому я в жизни никогда не курил. Меня это не спасло. Мне это не помогло. Многих выручило, но не Стасика.
— Как дела вообще, Гретхен?
— Лучше многих, Белковский. Ты встречаешь меня всегда, когда стремаешься видеть Лауру?
— Я встречаю тебя всегда, когда боюсь увидеть Лауру.
— Ты не увидишь ее. Признайся, что никогда ее не было.
Зато кашель курильщика точно ведь существует. И вперемешку со смехом — втройне.
— Что ты здесь делаешь, Гретхен?
— Иду к тебе, Белковский. К тебе домой.
— Зачем, Гретхен?
— За сковородкой.
— Какой сковородкой?
— Той, что я забыла у тебя. Когда мы изредка жили вместе. Ты жаришь себе нюрнбергские колбаски, а я который год без сковороды.
— Но я не умею ничего жарить. Ты разве не помнишь? У меня была микроволновка. СВЧ-печь, подаренная фанатами. Но и она сгорела. Я ем только холодный плавленый сыр.
— Не морочь мне голову, старый мудила. Ты врешь даже плотней, чем всегда. Мы прямо сейчас пойдем к тебе в твое зассанное логово, и я ее заберу. И скажи спасибо, если я не разобью ею твою бессмысленную башку.
— Ты совсем сошла с ума, Грета?
— Да. Совсем. А что? Ты тоже когда-то казался умным. Сколько лохов купились на это первое впечатление.
— Откуда у меня может быть твоя сковородка?
— Все, что у тебя есть, от меня. И она тоже. У тебя нет только Лауры. Я тебе ее в жизни не приводила. Ты ее сочинил. И не говори обратного.
— Я скажу обратное.
— Не говори.
— Лаура была. И есть. Во плоти.
— Нет.
— Да.
— Тогда я скажу тебе, что у нее 11 детей. Доволен?
— Каких еще одиннадцать, старуха? Было же шесть.
— Ты уже торгуешься, Белковский. Какая ты все-таки мразь. Почему я тебя раньше не убила бутылкой виски! Твой хлипкий череп никогда бы ее не выдержал.
— Виски.
— Да. Одиннадцать.
— Грета, ступай к себе. Становится слишком холодно.
— Я иду к тебе, сученыш. Ты собираешься к Брейгелю?
— Откуда… Нет, я не то хотел сказать.
— То-то. Ты ничего скрыть не умеешь. Как и раньше. Скорее бы у тебя от водки язык отсох. Пошли-пошли. Ты думаешь, я что-то забыла? Помню и маршрут, и дистанцию. Лучше, чем ты, жалкий поц.
— У меня нет твоей сковородки.
— Есть. А где же она, если не в твоей заблеванной хате?
— Где ей и положено быть.
— Где?
— У чертей. В аду. Все лучшие сковородки всегда у них.
— Я к ним заглядывала. Там только одна. На ней жарят моего младенца, к которому ты не имеешь никакого отношения. Ты просто старый импотент. Да ты и молодым был такой. Пошли.
— И эта одна — не твоя.
— Нет. В аду не лгут. Так, как ты, врут только на Патриаршем пруду, будь он проклят.
— Нет. Мы не пойдем.
— Как не пойдем? Наглость потерял, сучара?
Я возвел взгляд вертикально. В долгом окне, среди столкновения лилий, прямо над немым салоном тайского массажа, была Лаура. Она стояла отвесно, но с полупоклоном. Словно Евгений Онегин женского рода. Владимир Бельтов дамского образца. Детские тени увивались вокруг нее. Я захотел позвать на помощь, но больше не смог.
Я просто побежал. 106 изъезженных килограмм трепыхались во мне. Грета не догонит меня. Она не бросит свою тележку. А без тележки я быстрее. Как бы она ни старалась.
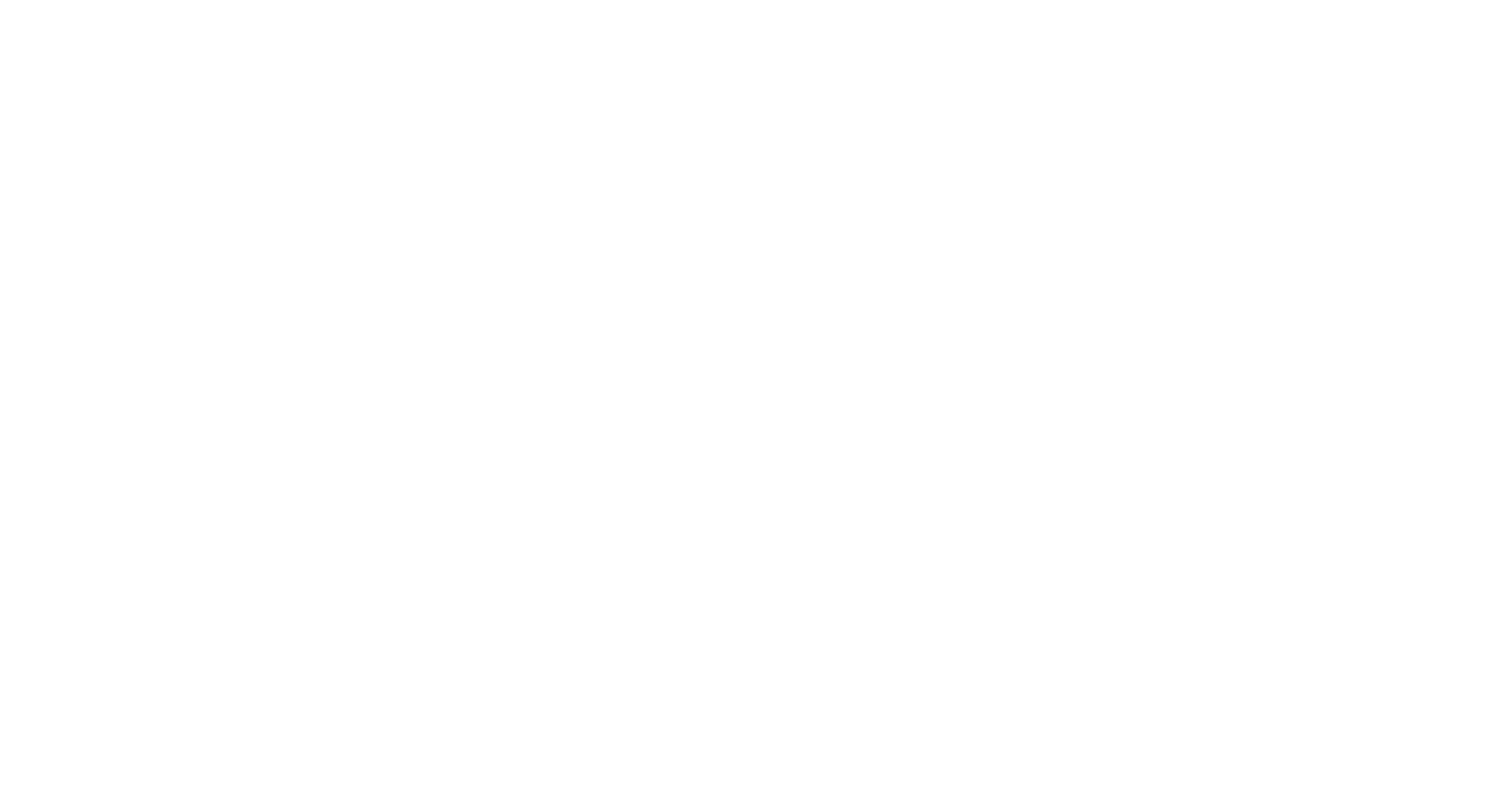
А дверь у меня железная. Не то что в аду. И даже если кто придет за моей сковородкой — не достучится.
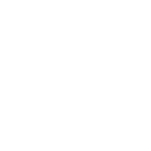
Больше всего я боялся обыска. Следственного комитета РФ или чьего-то еще.
А почему? А потому что невыразимо стыдно за мой квартирный бардак. Ладно еще, уборщицы, то есть домработницы, не было два с половиной месяца. Ее и не могло быть, потому что мне истово жаль отдать ей полторы тысячи. Но 48 (примерно) бутылок из-под «Праздничной». Как их объяснить? Что был банкет и приходили друзья? Но друзья не приходят в таком беспорядке. Друзья — это уже порядок. Не рассказывать же всем, что мусоропровод у нас засорен давно. А контейнер для стеклотары перенесли на пятьсот метров к Западу, и простым ходом до него теперь не дойти.
Дверной звонок у меня давно не работает. Можно стучать в двери, но я не слышу. Звукоизоляция хорошая. И я не встречаюсь ни с кем, кроме договоренных заранее. Сильно заранее.
Но есть существа, которым я не могу не открыть. И барабанят они так по дверной поверхности, что и мамврийский дуб заговорил бы в ответ. И имеют полное право вскрыть дверь бензопилой, которую почему-то называют болгаркой. А вообще-то она не болгарка никакая, а угловатая шлифовальная машина. Так научил меня комиссар дома доктор Епифаныч. Давно его не видно, может, умер. А на похороны не собирали. Почему? Потому, наверное, что собирать мог только сам Епифаныч. Остальные не умеют и наплевать. А мертвый сборщик на свои же похороны — это довольно странно, согласитесь. Вы были дали денег реликтово холодному человеку, совсем не отбрасывающему тени? То-то же.
Так вот. Вернусь к основному тезису. Невозбранно входить в мое жилище могут только следователи и всякие прочие менты. Если примутся, например, в рамках уголовного дела об отмывании человечества искать доказательства земного существования моей Лауры.
И я должен/обязан буду им отворить. Отворите, если стучат, — сказано в уголовно-процессуальном кодексе. И тогда я испытаю весь страшный позор моего бардака. Они снимут мое укрывище на ихнее процессуальное видео. И покажут, например, по РЕН ТВ. Глядите, мол, как живет Белковский, выдававший себя за приличного человека. 48 пустых бутылок от «Праздничной»! Не говоря уже о культурном слое, засыпавшем остатки его бытия.
Послушайте меня временно, мои молодые друзья. Бойтесь приличных людей. Это самое страшное, что есть в нашей России. Когда я слышу слова «приличный человек», я пытаюсь схватиться за угловатый шлифовальный станок. Но его еще не принесли сотрудники Следственного комитета, потому хвататься не за что. Остается ждать и терпеть, как принято у русских людей не очень приличных. У нас как принято. Иными словами.
Но сегодня я проснулся совершенно свежим. Как не бывало давно. Алкаши спят без сновидений, в том проблема. По-научному это именуется «депривация быстрого сна». Вот как у президента В. В. Путина. Хотя он не алкаш никакой и, кажется, вовсе не потребляет спиртного. Оттого, как говорит мой друг Венедиктов, качество вина на кремлевских приемах на последние 4 года снизилось в 1,6 раза. И правильно: когда босс не пьет, кто же убедится в подмене хорошего вина на дрянное? Только Он, но Он занят другими делами.
И вот, в режиме депривации, когда спишь по 6 часов в сутки безо всяких картин системы «Брейгель»/«Боттичелли», а то и фирменный Босх, если перебрал с вечера молдавского коньяку из Чебуречной СССР, — бывает страшное настроение. В такие минуты г-ну Путину ясно хочется у кого-нибудь что-нибудь аннексировать. И как трудно удержаться! Особенно когда есть под рукой все инструменты аннексии. Хоть садовые щипцы, хоть ядерные вооружения. Поймите его тоже. Не думайте в этот час о себе, не судите о нем по себе. Он великий диктатор, а вы простые плебеи, разросшиеся по Вселенной сорной травой.
Зато когда быстрый сон возвращается, и ты видишь потустороннюю живопись, и осознаешь себя полным персонажем явленных картин, — совсем другое дело. Голова пробуждается в исключительно эффективном состоянии.
Так случилось и нынче. Мне снилась встреча с Лаурой. Где-то на даче, среди немалой тусовки. Мы сидели за деревянным столом. Она читала мои любовные письма. Но я никогда не сумел бы написать правильного любовного письма. То были, скорее, расписки о любви. Должен отдать столько-то любви ровно в означенный час. Лаура блаженно смеялась. Она говорила: вот две расписки, обе от руки, семь лет на одного линейного дистанции, а разницы по содержанию почти нет. А это что обведено красным? О, ха-ха-ха!
И кроме она добавляла: ты прекрасно выстрелил мне в ногу вчерашним вечером, можем повторить! Да-да, можем повторить. Верно, это какая-то эротическая аллюзия на дачные темы, но я не перечитывал психоанализ с тех пор, как пропил словарь Брокгауза и Ефрона. Вкупе с подарочным собранием Солженицына и надписью асессора Ковалева.
Нынче я бодрствовал в нормальном состоянии. И вдруг сразу понял, что напротив меня сидят взрослые опрятные мужчины. Двое. Нет, не видение. К тому же мужчины вполне конкретные, а не вообще.
Один татарин, продолговатый, с хорошо подстриженной чингисханьей бородкой.
Другой полнорусский, строго поперечный, без кустистой растительности, с прической «Лионель Месси», двухдневной щетиной.
Оба хорошо пахнут. Причем одинаково, как близнецы, только что разверзшие ложе сна. Что-то вроде сладковатого Hermes. Одеколон или туалетная вода, понять уже невозможно. Да и надо ли понимать! Знать — другое дело, а вот понимать — совершенно лишнее.
И я, конечно, знал, кто эти мужчины. Их знал весь мир. Благодаря их настойчивости и телевизору. Петров и Боширов. Мишкин и Чепига. А может, их звали как-то еще, но у человечества уже не было сил интересоваться.
А почему? А потому что невыразимо стыдно за мой квартирный бардак. Ладно еще, уборщицы, то есть домработницы, не было два с половиной месяца. Ее и не могло быть, потому что мне истово жаль отдать ей полторы тысячи. Но 48 (примерно) бутылок из-под «Праздничной». Как их объяснить? Что был банкет и приходили друзья? Но друзья не приходят в таком беспорядке. Друзья — это уже порядок. Не рассказывать же всем, что мусоропровод у нас засорен давно. А контейнер для стеклотары перенесли на пятьсот метров к Западу, и простым ходом до него теперь не дойти.
Дверной звонок у меня давно не работает. Можно стучать в двери, но я не слышу. Звукоизоляция хорошая. И я не встречаюсь ни с кем, кроме договоренных заранее. Сильно заранее.
Но есть существа, которым я не могу не открыть. И барабанят они так по дверной поверхности, что и мамврийский дуб заговорил бы в ответ. И имеют полное право вскрыть дверь бензопилой, которую почему-то называют болгаркой. А вообще-то она не болгарка никакая, а угловатая шлифовальная машина. Так научил меня комиссар дома доктор Епифаныч. Давно его не видно, может, умер. А на похороны не собирали. Почему? Потому, наверное, что собирать мог только сам Епифаныч. Остальные не умеют и наплевать. А мертвый сборщик на свои же похороны — это довольно странно, согласитесь. Вы были дали денег реликтово холодному человеку, совсем не отбрасывающему тени? То-то же.
Так вот. Вернусь к основному тезису. Невозбранно входить в мое жилище могут только следователи и всякие прочие менты. Если примутся, например, в рамках уголовного дела об отмывании человечества искать доказательства земного существования моей Лауры.
И я должен/обязан буду им отворить. Отворите, если стучат, — сказано в уголовно-процессуальном кодексе. И тогда я испытаю весь страшный позор моего бардака. Они снимут мое укрывище на ихнее процессуальное видео. И покажут, например, по РЕН ТВ. Глядите, мол, как живет Белковский, выдававший себя за приличного человека. 48 пустых бутылок от «Праздничной»! Не говоря уже о культурном слое, засыпавшем остатки его бытия.
Послушайте меня временно, мои молодые друзья. Бойтесь приличных людей. Это самое страшное, что есть в нашей России. Когда я слышу слова «приличный человек», я пытаюсь схватиться за угловатый шлифовальный станок. Но его еще не принесли сотрудники Следственного комитета, потому хвататься не за что. Остается ждать и терпеть, как принято у русских людей не очень приличных. У нас как принято. Иными словами.
Но сегодня я проснулся совершенно свежим. Как не бывало давно. Алкаши спят без сновидений, в том проблема. По-научному это именуется «депривация быстрого сна». Вот как у президента В. В. Путина. Хотя он не алкаш никакой и, кажется, вовсе не потребляет спиртного. Оттого, как говорит мой друг Венедиктов, качество вина на кремлевских приемах на последние 4 года снизилось в 1,6 раза. И правильно: когда босс не пьет, кто же убедится в подмене хорошего вина на дрянное? Только Он, но Он занят другими делами.
И вот, в режиме депривации, когда спишь по 6 часов в сутки безо всяких картин системы «Брейгель»/«Боттичелли», а то и фирменный Босх, если перебрал с вечера молдавского коньяку из Чебуречной СССР, — бывает страшное настроение. В такие минуты г-ну Путину ясно хочется у кого-нибудь что-нибудь аннексировать. И как трудно удержаться! Особенно когда есть под рукой все инструменты аннексии. Хоть садовые щипцы, хоть ядерные вооружения. Поймите его тоже. Не думайте в этот час о себе, не судите о нем по себе. Он великий диктатор, а вы простые плебеи, разросшиеся по Вселенной сорной травой.
Зато когда быстрый сон возвращается, и ты видишь потустороннюю живопись, и осознаешь себя полным персонажем явленных картин, — совсем другое дело. Голова пробуждается в исключительно эффективном состоянии.
Так случилось и нынче. Мне снилась встреча с Лаурой. Где-то на даче, среди немалой тусовки. Мы сидели за деревянным столом. Она читала мои любовные письма. Но я никогда не сумел бы написать правильного любовного письма. То были, скорее, расписки о любви. Должен отдать столько-то любви ровно в означенный час. Лаура блаженно смеялась. Она говорила: вот две расписки, обе от руки, семь лет на одного линейного дистанции, а разницы по содержанию почти нет. А это что обведено красным? О, ха-ха-ха!
И кроме она добавляла: ты прекрасно выстрелил мне в ногу вчерашним вечером, можем повторить! Да-да, можем повторить. Верно, это какая-то эротическая аллюзия на дачные темы, но я не перечитывал психоанализ с тех пор, как пропил словарь Брокгауза и Ефрона. Вкупе с подарочным собранием Солженицына и надписью асессора Ковалева.
Нынче я бодрствовал в нормальном состоянии. И вдруг сразу понял, что напротив меня сидят взрослые опрятные мужчины. Двое. Нет, не видение. К тому же мужчины вполне конкретные, а не вообще.
Один татарин, продолговатый, с хорошо подстриженной чингисханьей бородкой.
Другой полнорусский, строго поперечный, без кустистой растительности, с прической «Лионель Месси», двухдневной щетиной.
Оба хорошо пахнут. Причем одинаково, как близнецы, только что разверзшие ложе сна. Что-то вроде сладковатого Hermes. Одеколон или туалетная вода, понять уже невозможно. Да и надо ли понимать! Знать — другое дело, а вот понимать — совершенно лишнее.
И я, конечно, знал, кто эти мужчины. Их знал весь мир. Благодаря их настойчивости и телевизору. Петров и Боширов. Мишкин и Чепига. А может, их звали как-то еще, но у человечества уже не было сил интересоваться.
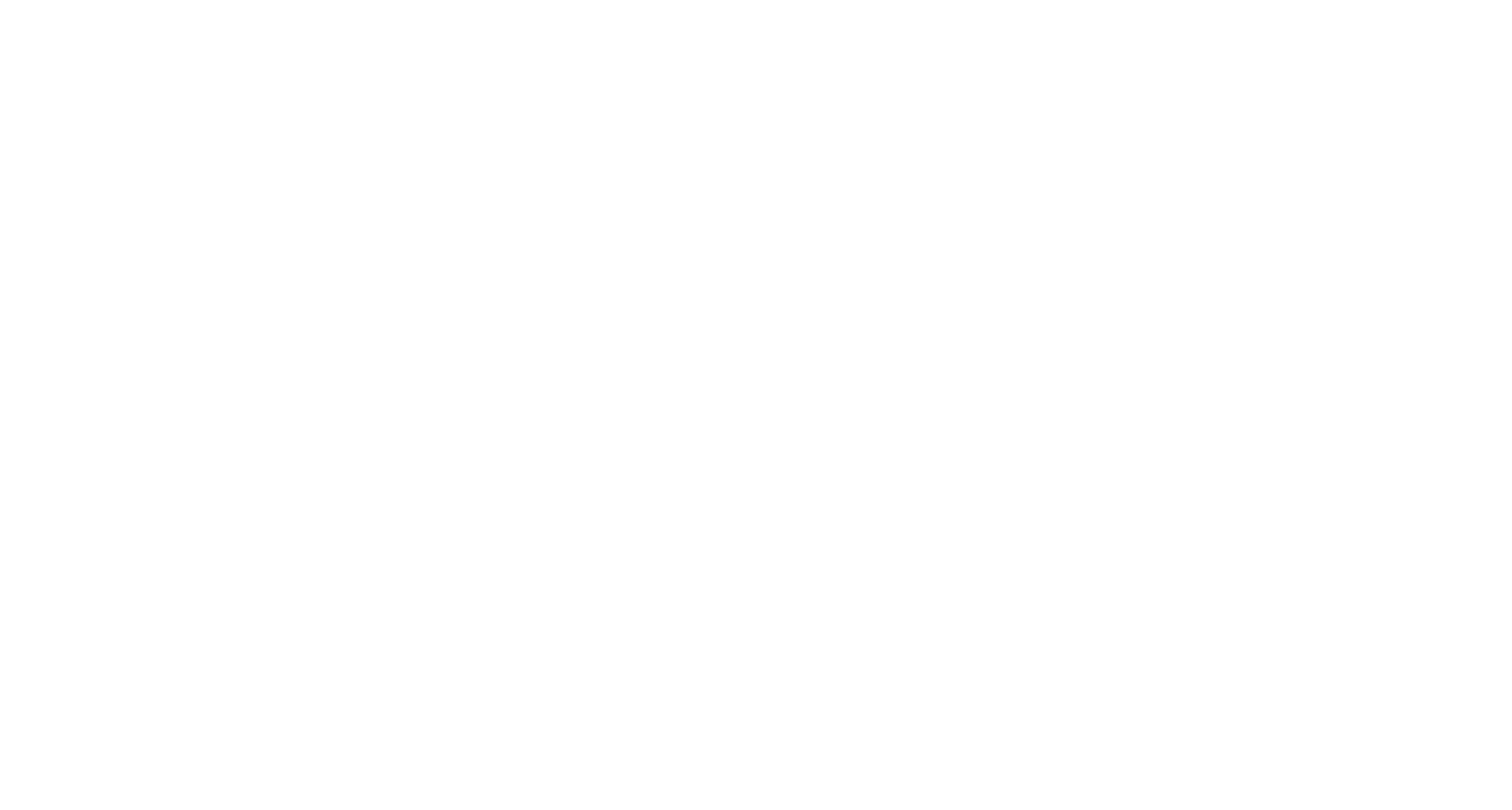
Это они устроили бойню в Солсберийском соборе. В ста милях от города Лондона. Но их помиловали, потому что первая бойня приличным людям всегда прощается. Таков англосаксонский закон. А у англосаксов закон давно уж выше справедливости, не то что у нас.
Единственное: я не могу различать лица в четырехграннике Петров — Боширов — Мишкин — Чепига. Слишком много вероятных комбинаций. Потому говорю в изложении только «Первый» и «Второй».
— Это ты Белковский? — грубовато спросил Первый.
Вот у болезной Греты никогда не возникло бы такого вопроса.
— Станислав Александрович? — вкрадчиво добавил Второй.
— Да-да, кажется, я? А как вам удалось сюда зайти, коллеги?
Первый и Второй, Чеширов и Кошкин, расхохотались на шестерых.
Единственное: я не могу различать лица в четырехграннике Петров — Боширов — Мишкин — Чепига. Слишком много вероятных комбинаций. Потому говорю в изложении только «Первый» и «Второй».
— Это ты Белковский? — грубовато спросил Первый.
Вот у болезной Греты никогда не возникло бы такого вопроса.
— Станислав Александрович? — вкрадчиво добавил Второй.
— Да-да, кажется, я? А как вам удалось сюда зайти, коллеги?
Первый и Второй, Чеширов и Кошкин, расхохотались на шестерых.
Это было из теории вопроса, придуманной Хемингуэем. Там много пунктов, но три основных – про то, когда ни в коем случае не надо задавать вопрос.
- Если/когда ответ на него ясен априори.
- Если/когда ответ на него не имеет практического значения.
- Если/когда ответчик точно не может сказать правды.
В нашем случае соблюдались все условия 1–3 разом. Так что переспрашивать, по Хемингуэю, смысла не было никакого.
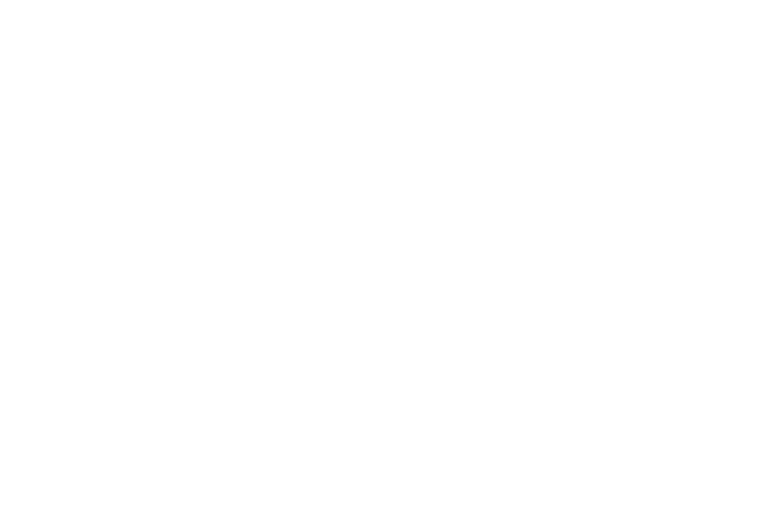
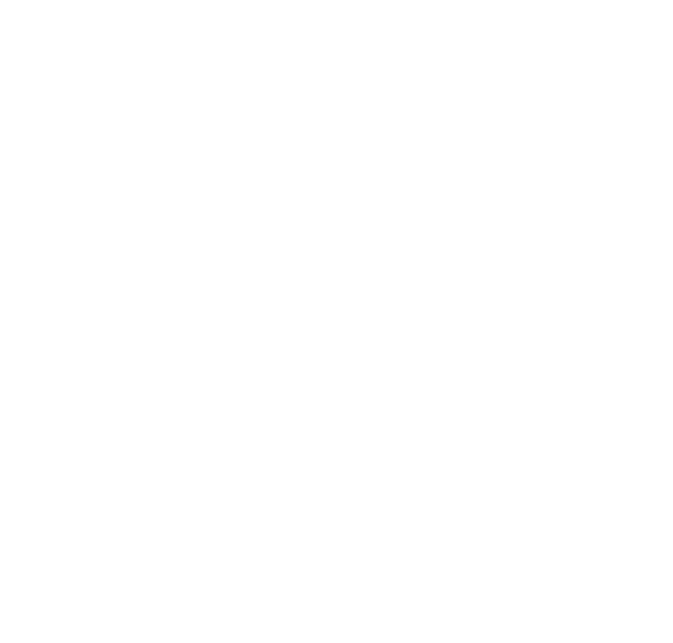
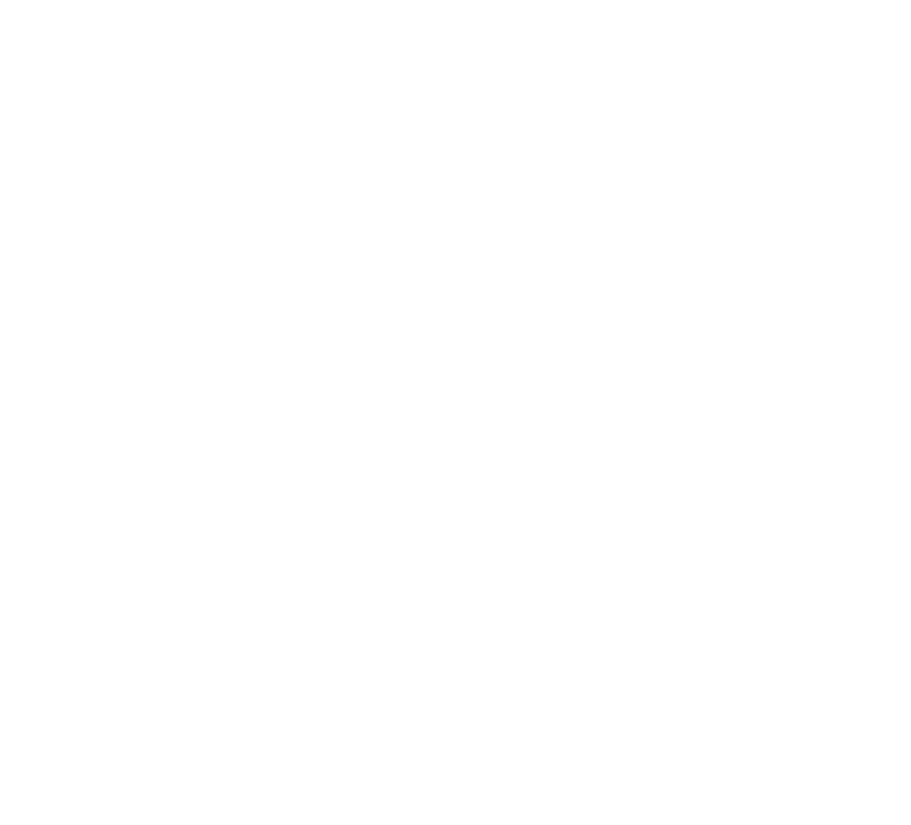
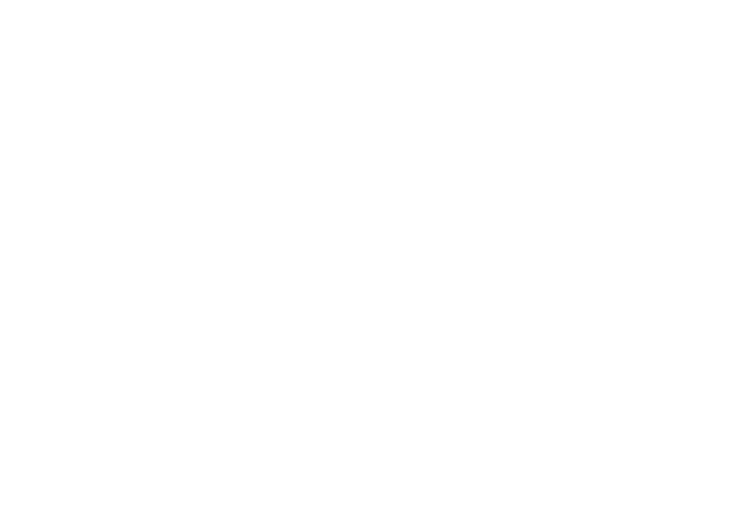
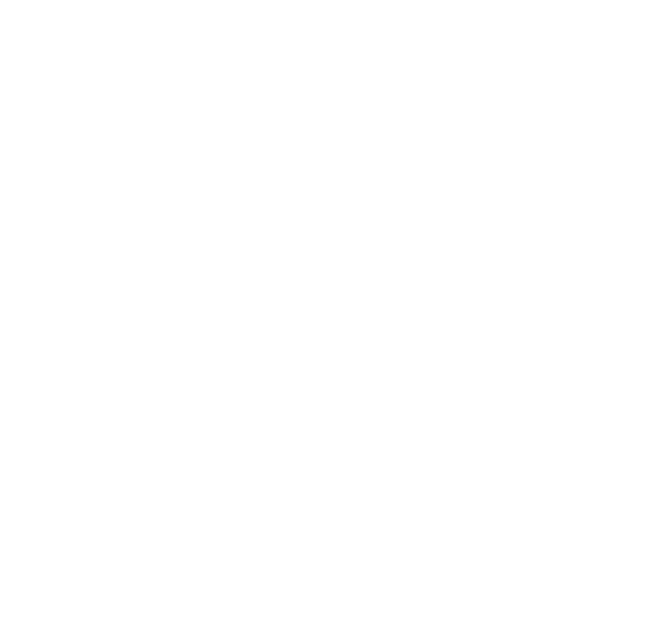
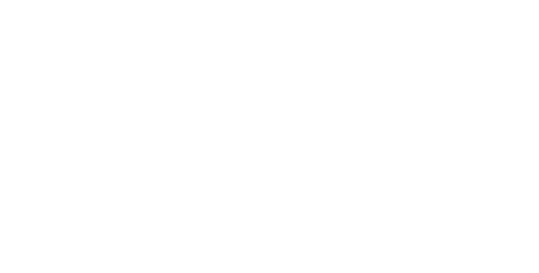
Я бы не сказал, что все эти шесть ребят показались мне в доску своими. Но за ними может быть некая страшная правота. Что, если срок действия белковского загранпаспорта и точно истек, а я не заметил?
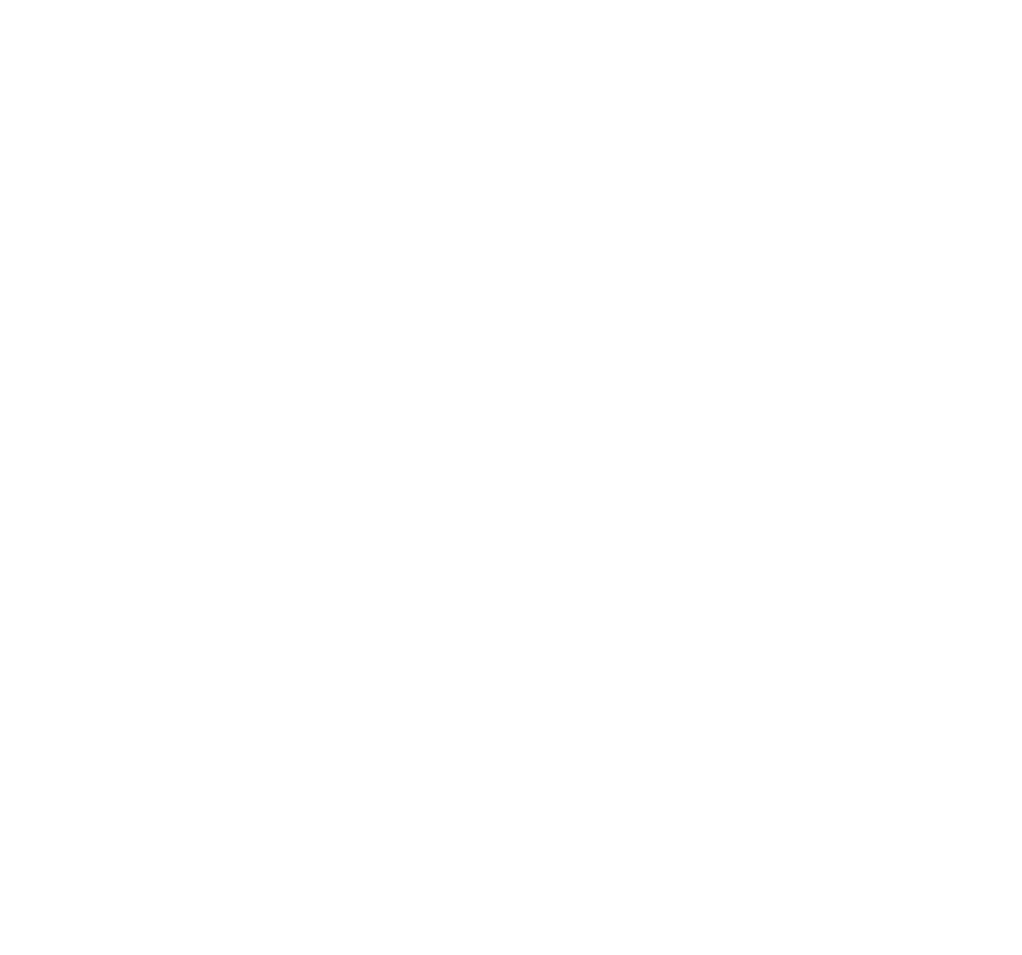
Понимающее перемигивание сторон.
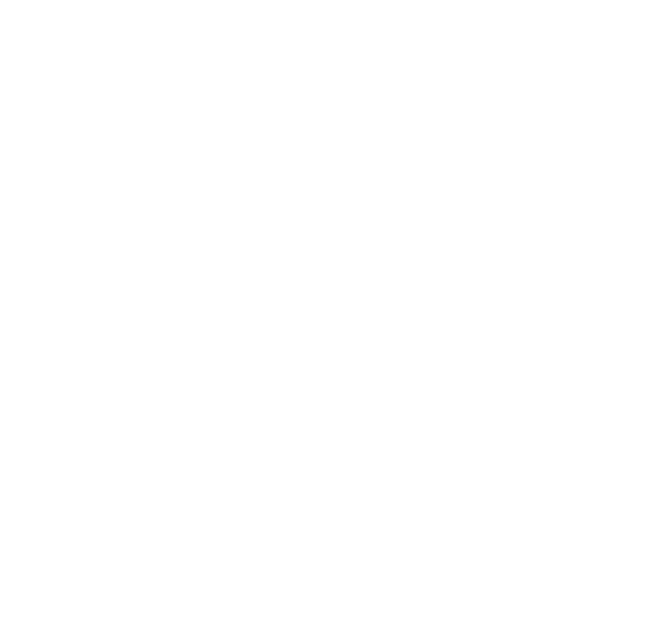
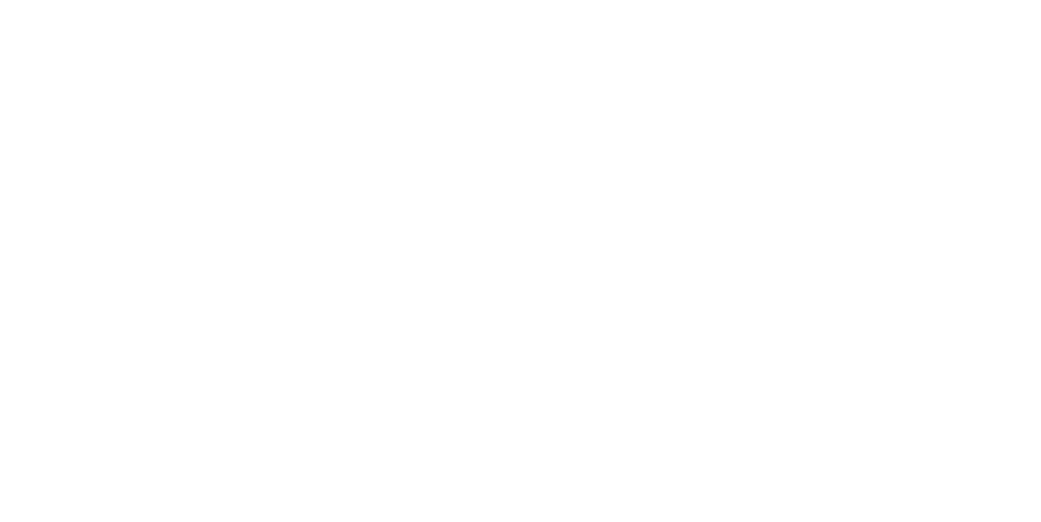
Я не издал никаких звуков. Все все знают, черт побери.
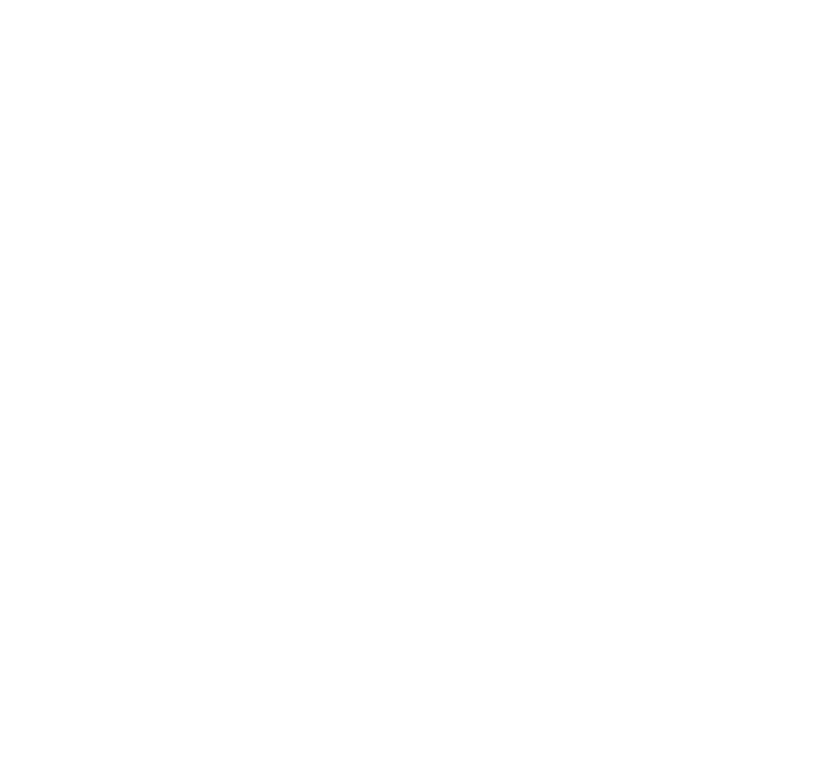
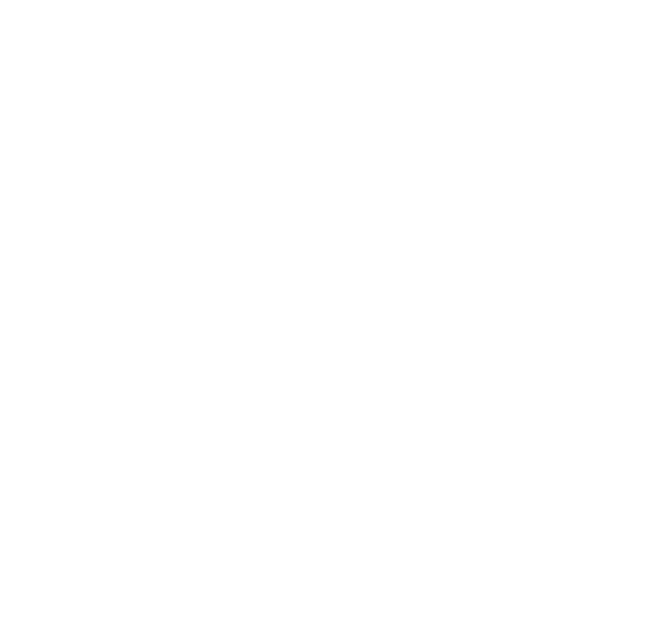
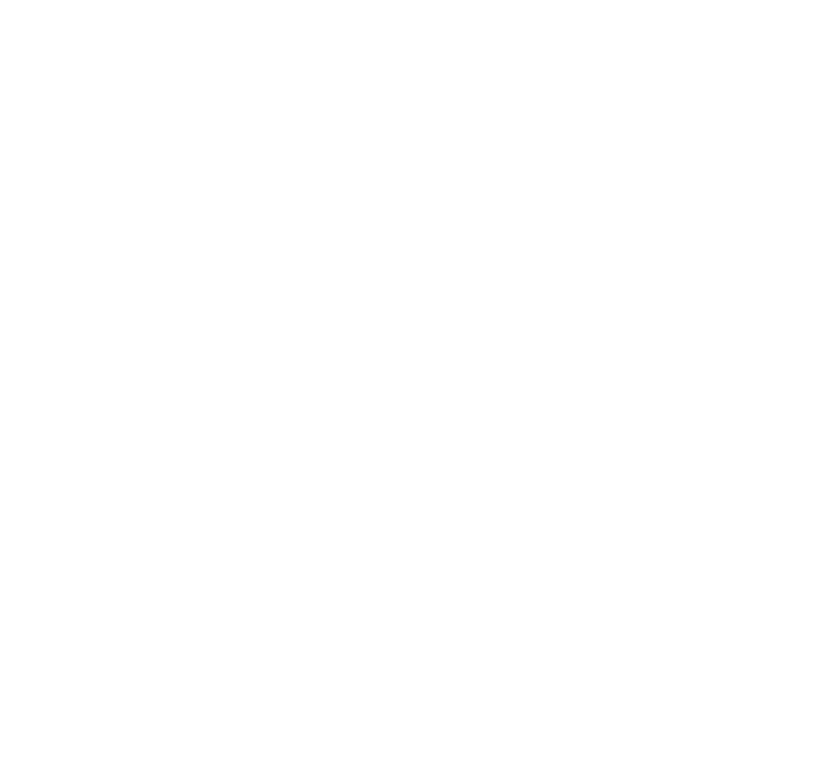
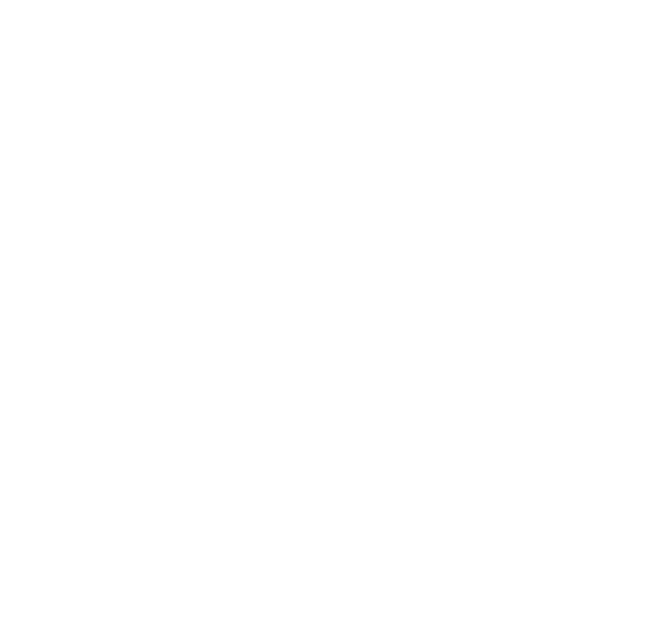
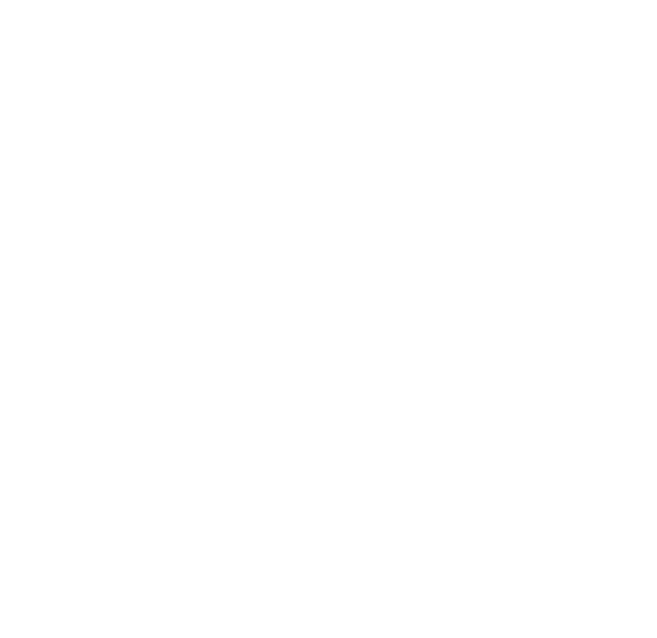
Первый поморщился от моего празднословия, второй снисходительно ухмыльнулся.
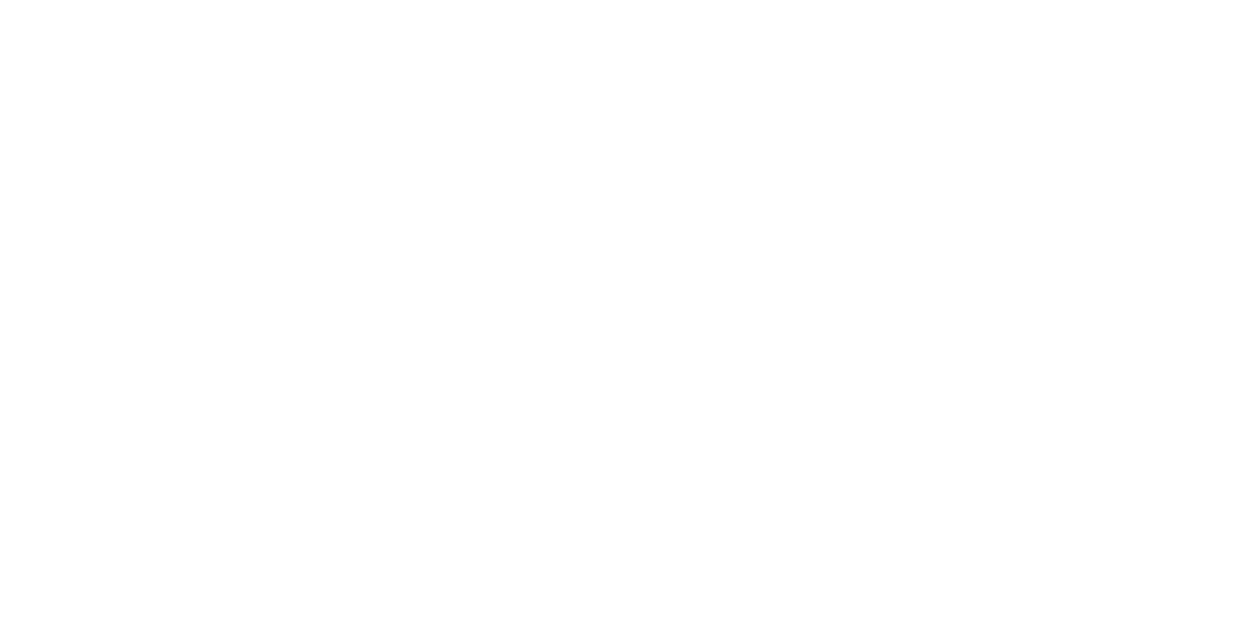
Общее ржание.
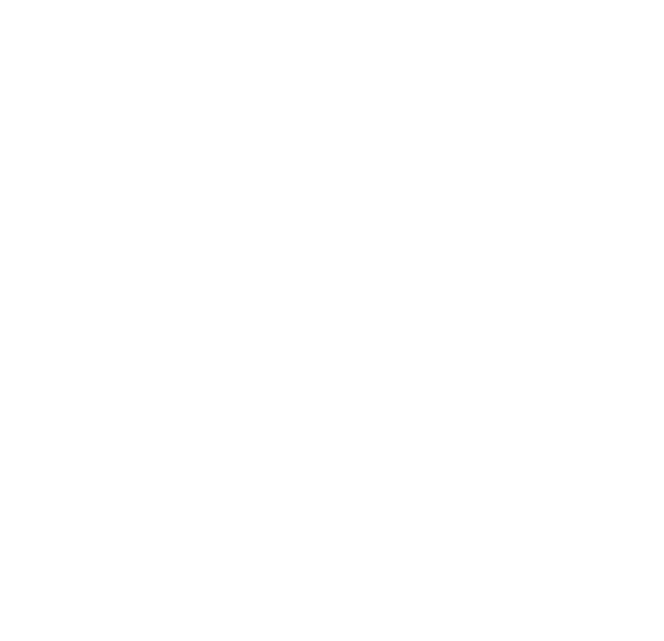
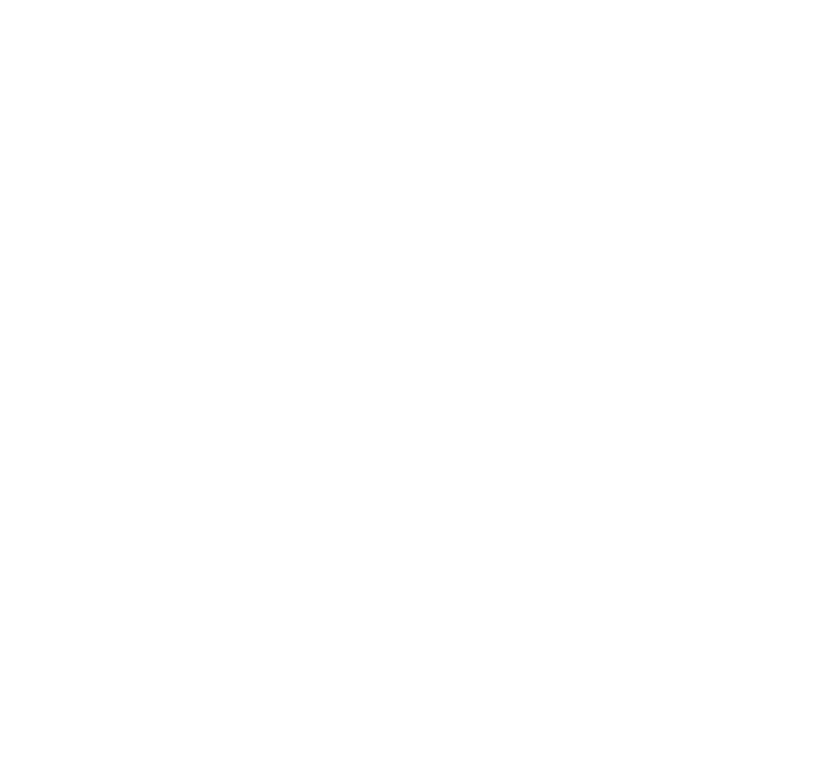
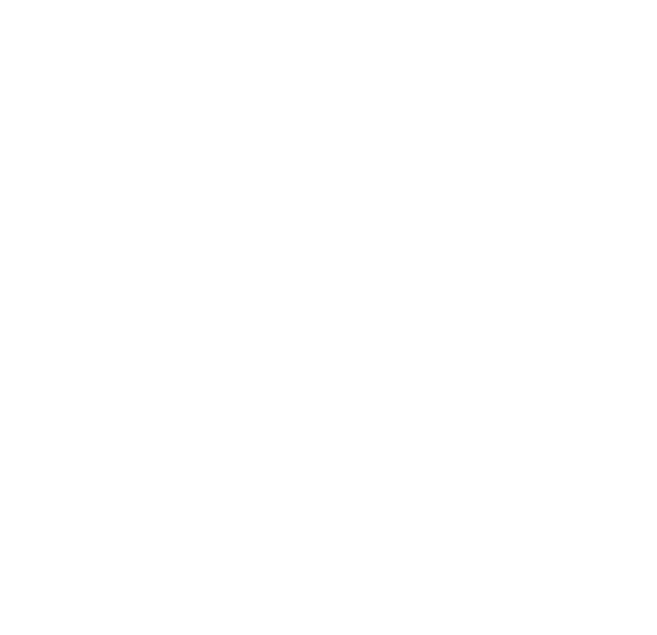
Смешно.
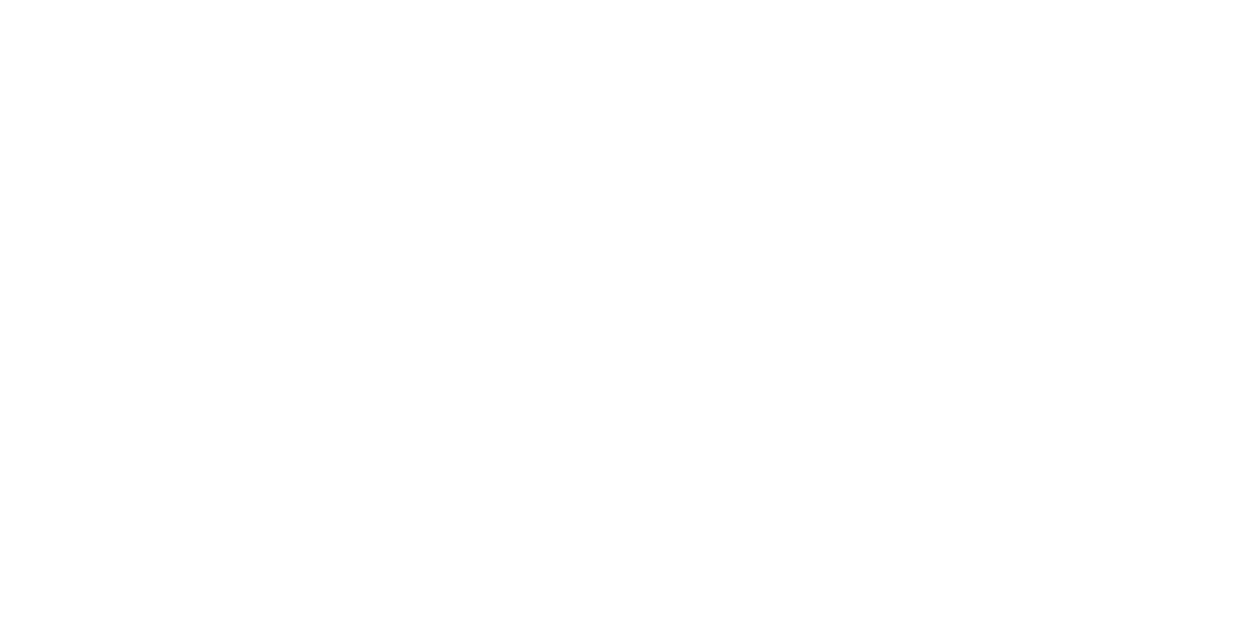
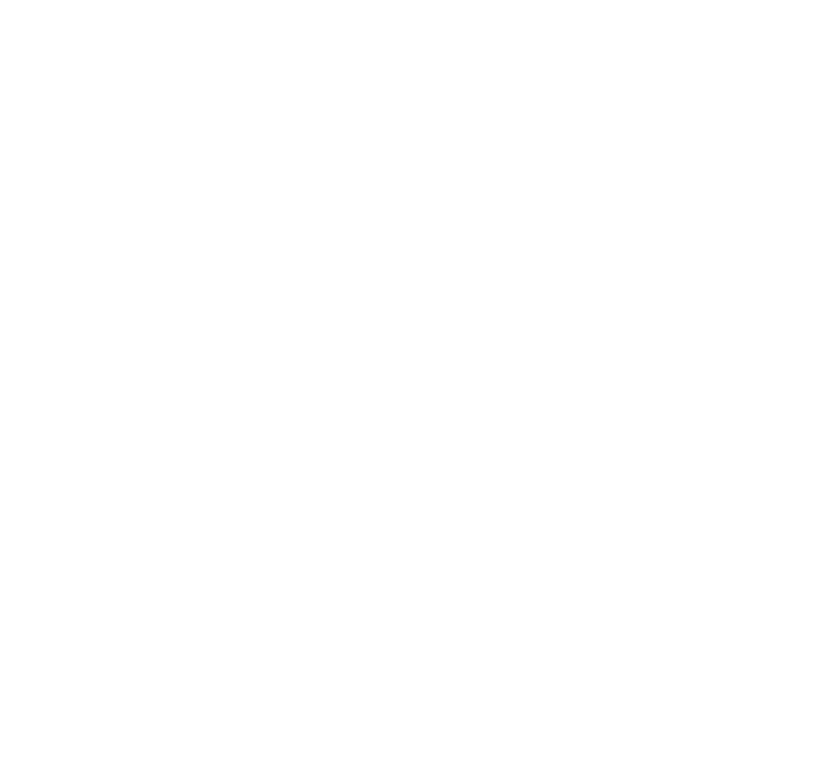
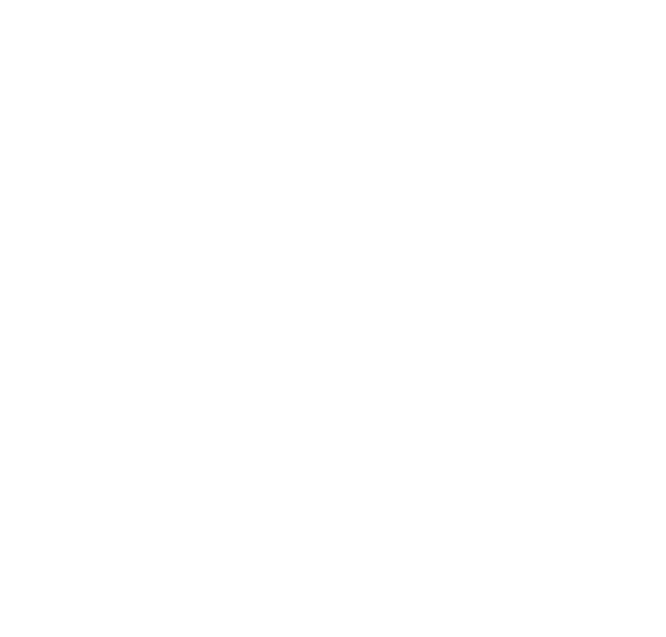
Я нарушил законы Хемингуэя. Черт.
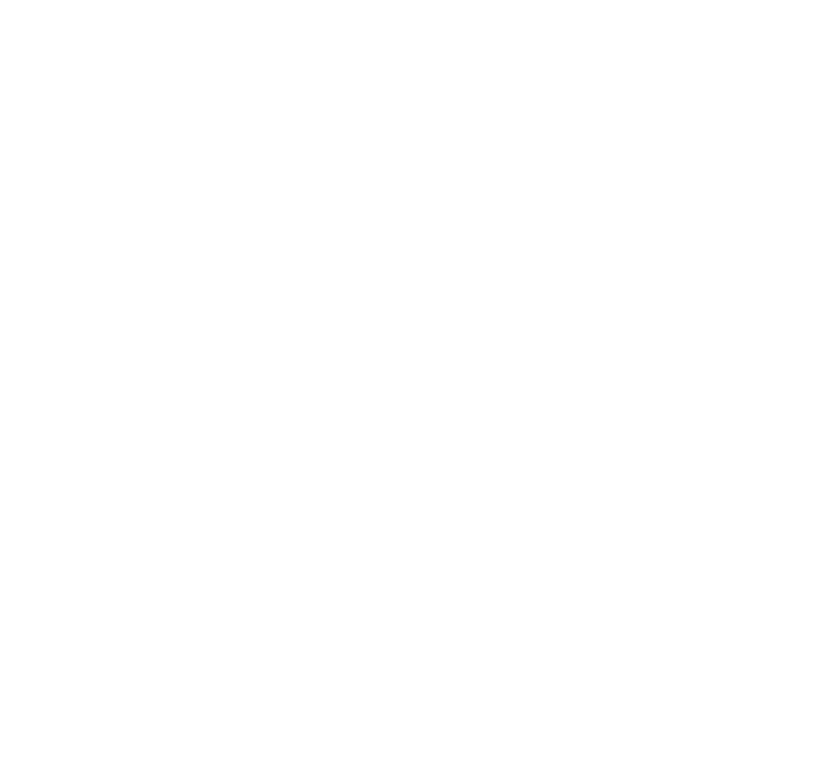
О, Господи, но не Боже! Это же американская база! Там, где Сонечкин любовник-полковник.
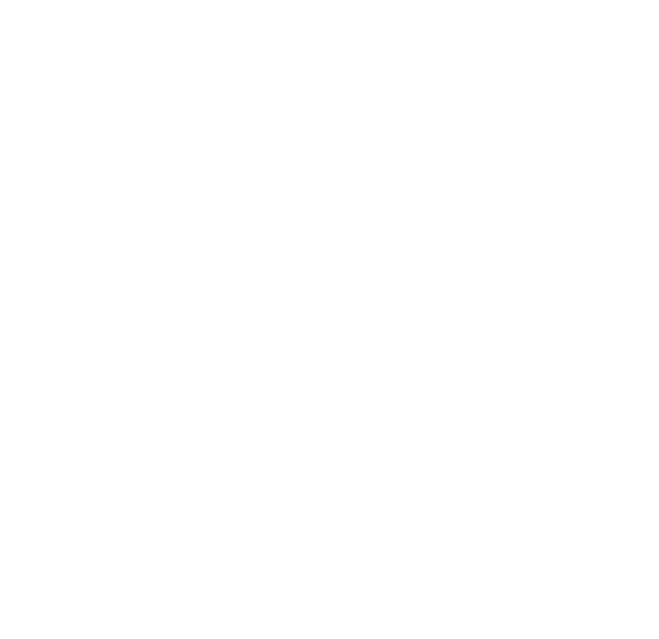
Всеобщее шестикратное ржание. Ну что ты будешь делать! Не становится ли моя миссия слишком уж смехотворной?
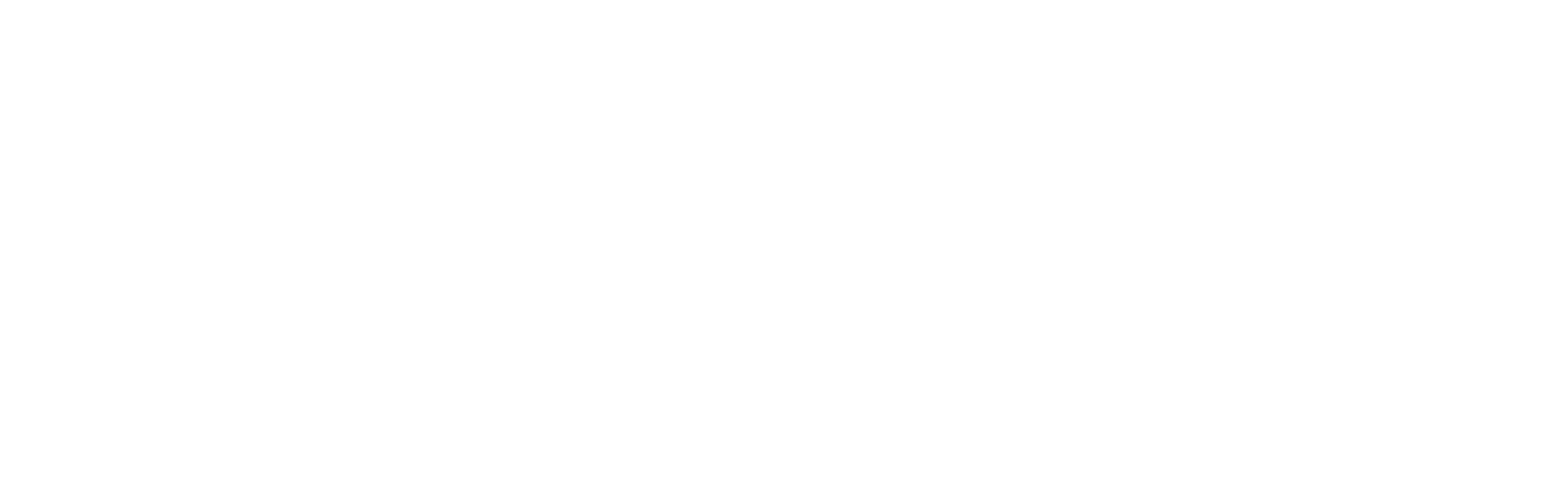
Было так ясно, как моя садовая голова после странного сна с Лаурой.
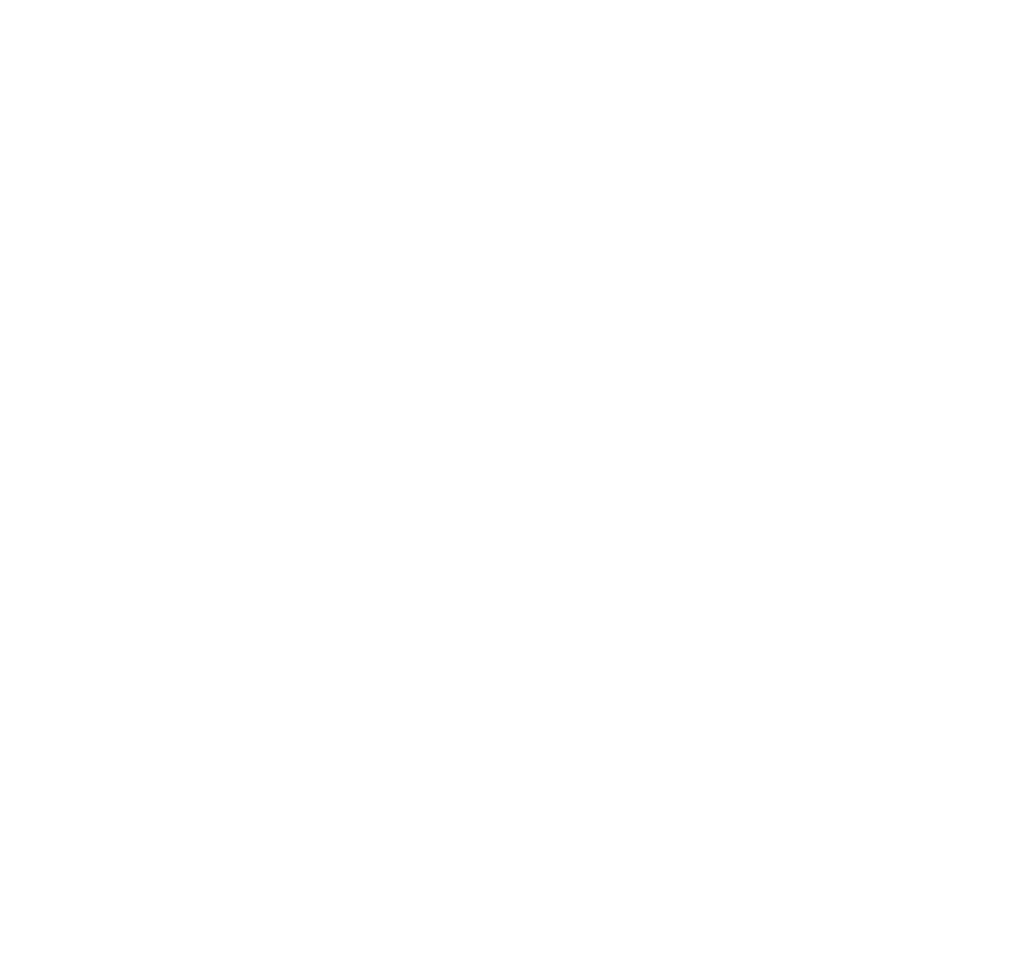
Я уже не и беспокоился. Меня смущало только, что я так и не встал с постели. А Кошкин с Чешировым, Герцен с Огаревым, Касторов и Поллуксов кружились надо мной, будто серые фельдшеры у постели обреченного вдребезги.
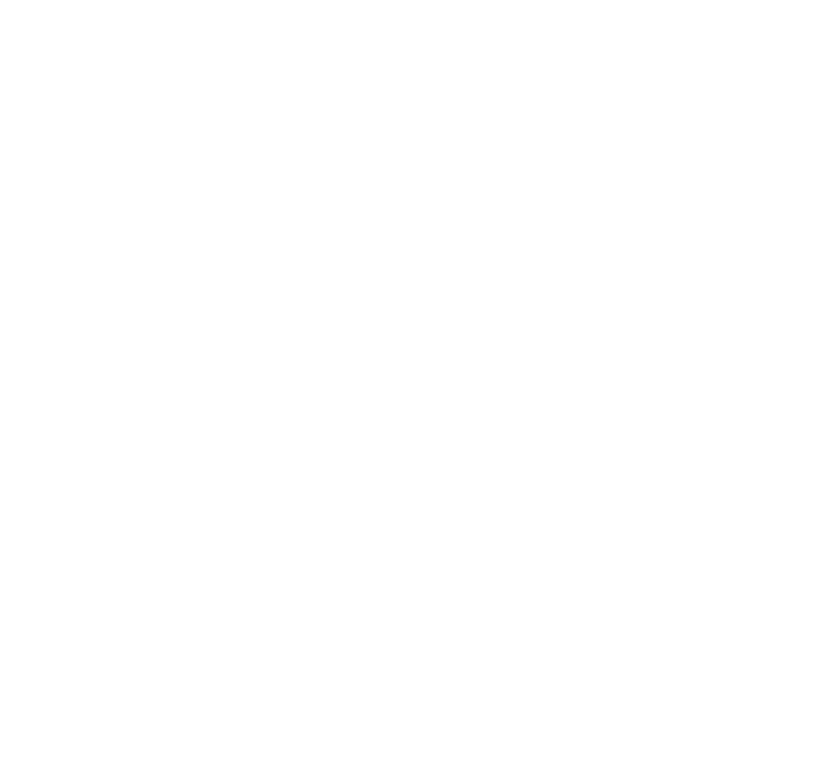
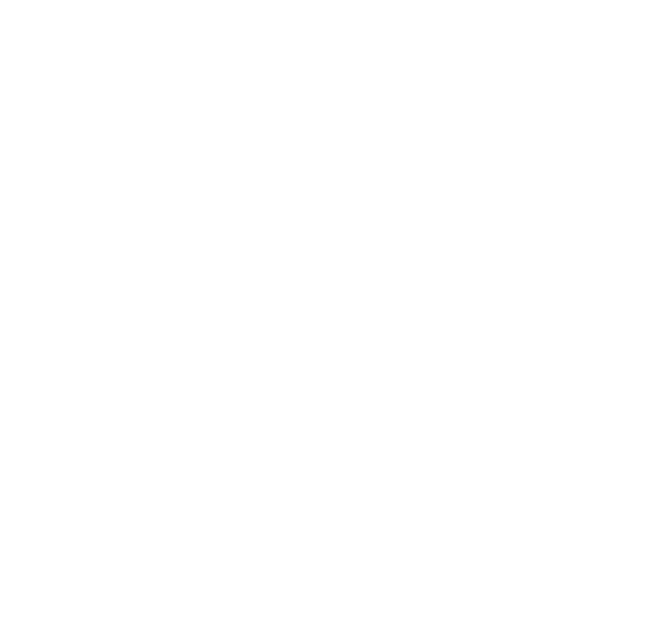
Бру-ха-ха, как сказал бы Мольер. У тебя и телефона-то нет, говнюк плешивый.
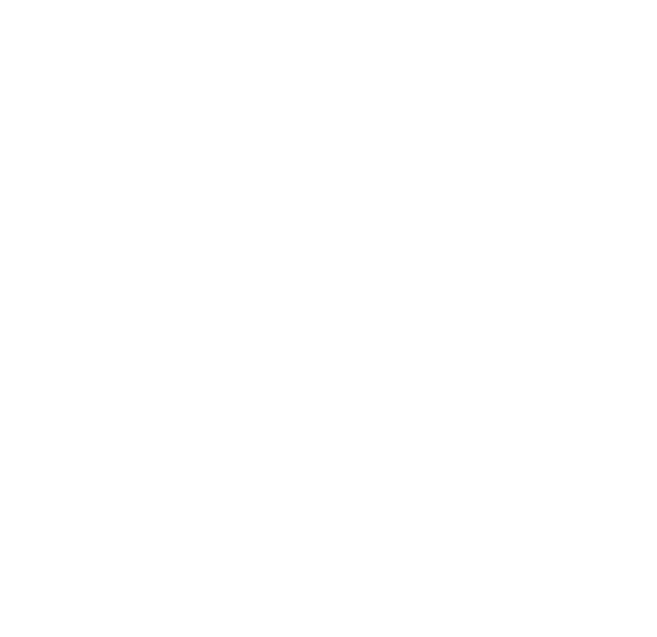
Не нагловато ли получилось? Они аж приостановились.
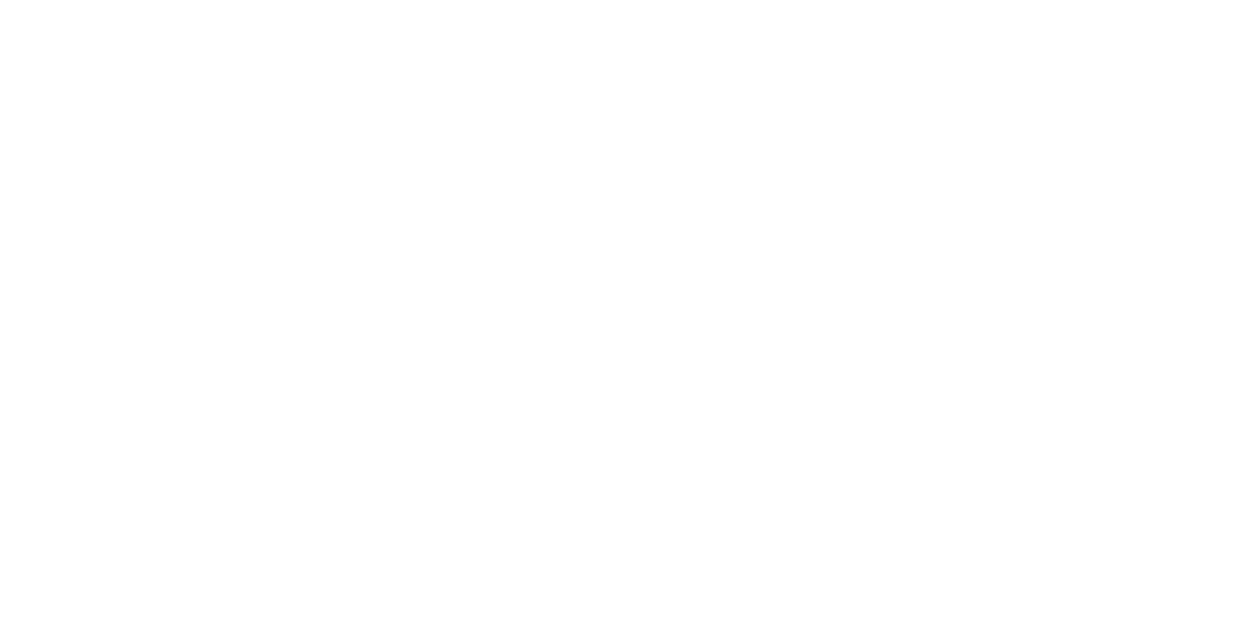
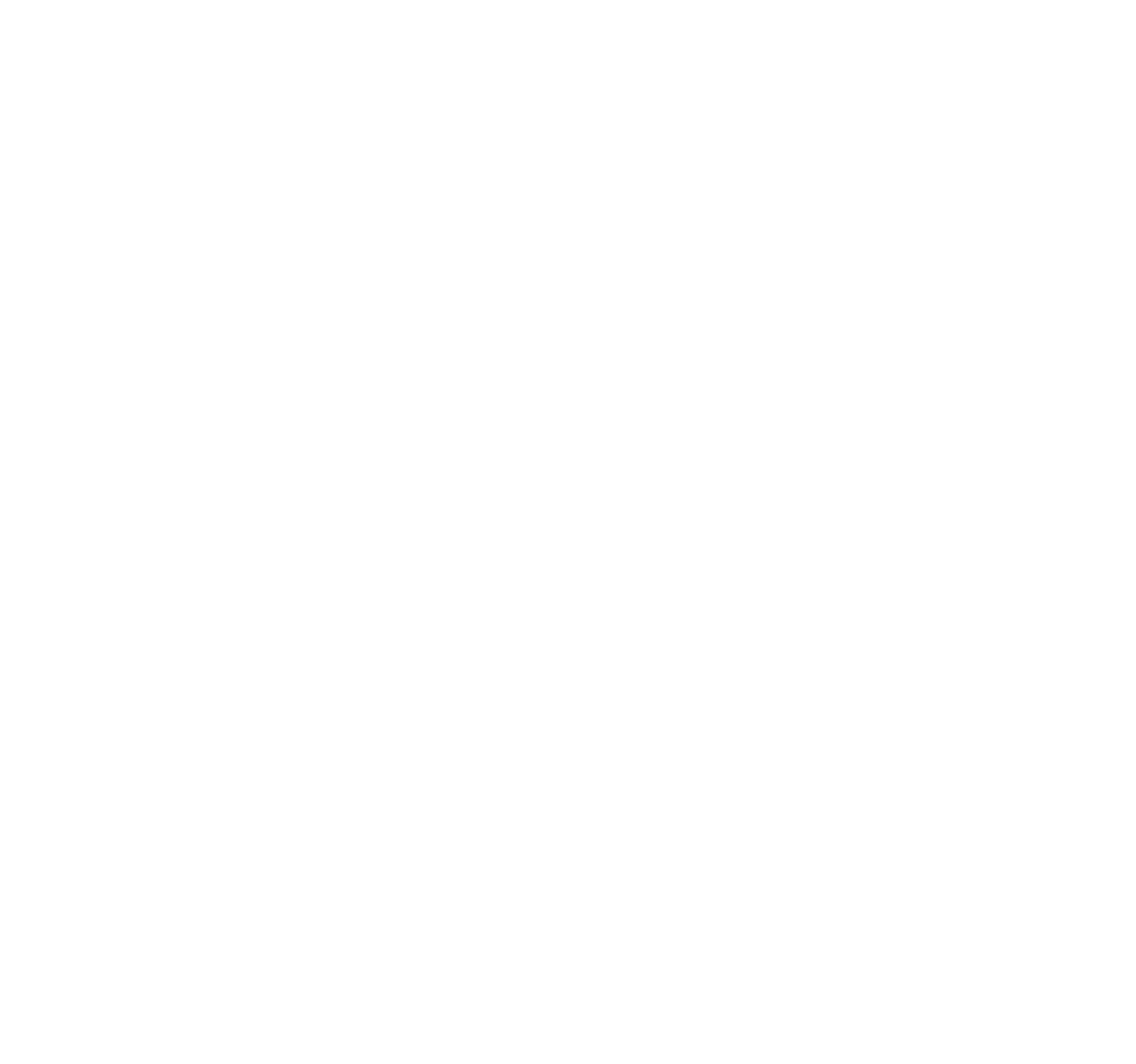
В прихожей.
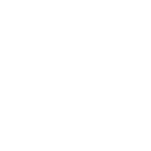
В сочельник, накануне венской командировки, пошел я в Третьяковский проезд. Посмотреть витрину ботиночного магазина.
Там есть бутик Fratelli Rossetti. Братья Россетти, собственно. Как говорят — я ни одну свечку не держал — самый дорогой на Москве. А как на самом деле — не знает никто.
Про этот бренд услышал я впервые, некогда лет назад, от моего старшего друга-наставника Александра Глебовича Невзорова. А. Г. посвятил драгоценным ботинкам лаконичные стихи.
Там есть бутик Fratelli Rossetti. Братья Россетти, собственно. Как говорят — я ни одну свечку не держал — самый дорогой на Москве. А как на самом деле — не знает никто.
Про этот бренд услышал я впервые, некогда лет назад, от моего старшего друга-наставника Александра Глебовича Невзорова. А. Г. посвятил драгоценным ботинкам лаконичные стихи.
Fratelli Rossetti подрались в клозете,
И после их кости нашли в винегрете.
И после их кости нашли в винегрете.
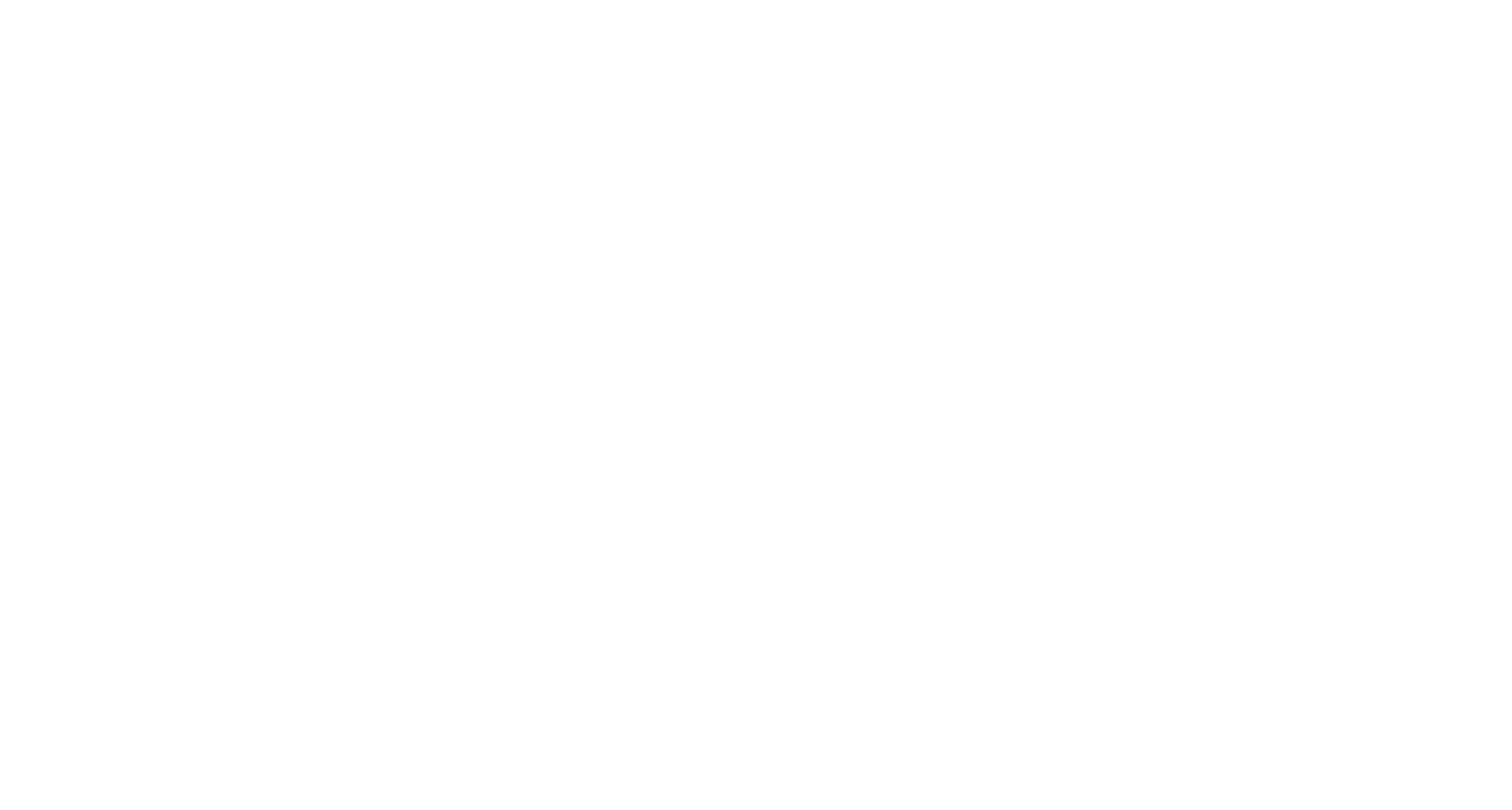
Невзоров вообще большой поэт. Но не пошел путем прямой реализации своего редчайшего дара. Потому официально и сознательно ненавидит стихи. И всякий раз, когда мы встречаемся, запрещает мне их читать. Один раз даже ударил меня по голове иконой Пантократора в порфировом переплете — когда я пытался объемно цитировать «Полифоническую поэму» классика Сергея Баруздина.
Но я не обижаюсь. Я счастлив, что человек такого масштаба — имею в виду нынче г-на Невзорова, а не т. Баруздина — побывал в моем неизмеримом быту.
Я двинулся туда, хотя ботинки мне были уже не нужны, ведь их заблаговрЕменно принесли офицеры Чеширов и Кошкин. Именно потому и отправился. Теперь я мог смотреть на святочную витрину горделивого бутика не то что спокойно, а — снисходительно. Ну, братья Россетти, и братья — что нам с того? В конце концов, все люди — горизонтальные родственники, как мы знаем со времен Марксова манифеста.
Но больше я хотел поглазеть на бутик Bentley. «Бентли». Где продают самые красивые машины в мире.
У «Бентли» очень трогательная морда. Ну, как у ослика Иа-Иа в пресловутом «Винни-Пухе». Суперавтомобиль смотрит на тебя с млекопитащей жалостью: мол, ты теперь скупее стал в желаньях, вчерашний герой собственного романа? Роман остался недописан, и рассчитывать на такую машинку ты больше не сможешь. Фьюить!..
Особенно нравятся мне сиреневые и желтые «Бентли». Вот они и есть настоящая пощечина общественному вкусу. Акт классового недомогания. Искусство оскорблять, как сказал бы патентованный поэт А. Г. Невзоров.
Я почти что прилип к бронированному стеклу. Продавцы, исполненные гордости за своих грустных осликов, не придали мне никакого значения. Они готовились к предрождественскому закрытию. Поеданью ритуальных индеек в подозрительно теплых домах. Их тридцатилетние карьеры только начинались. Они были веселы и нетерпеливы, как мартовские сосульки, приуготовленные зазевавшимся черепам ленивых сограждан.
Но я не обижаюсь. Я счастлив, что человек такого масштаба — имею в виду нынче г-на Невзорова, а не т. Баруздина — побывал в моем неизмеримом быту.
Я двинулся туда, хотя ботинки мне были уже не нужны, ведь их заблаговрЕменно принесли офицеры Чеширов и Кошкин. Именно потому и отправился. Теперь я мог смотреть на святочную витрину горделивого бутика не то что спокойно, а — снисходительно. Ну, братья Россетти, и братья — что нам с того? В конце концов, все люди — горизонтальные родственники, как мы знаем со времен Марксова манифеста.
Но больше я хотел поглазеть на бутик Bentley. «Бентли». Где продают самые красивые машины в мире.
У «Бентли» очень трогательная морда. Ну, как у ослика Иа-Иа в пресловутом «Винни-Пухе». Суперавтомобиль смотрит на тебя с млекопитащей жалостью: мол, ты теперь скупее стал в желаньях, вчерашний герой собственного романа? Роман остался недописан, и рассчитывать на такую машинку ты больше не сможешь. Фьюить!..
Особенно нравятся мне сиреневые и желтые «Бентли». Вот они и есть настоящая пощечина общественному вкусу. Акт классового недомогания. Искусство оскорблять, как сказал бы патентованный поэт А. Г. Невзоров.
Я почти что прилип к бронированному стеклу. Продавцы, исполненные гордости за своих грустных осликов, не придали мне никакого значения. Они готовились к предрождественскому закрытию. Поеданью ритуальных индеек в подозрительно теплых домах. Их тридцатилетние карьеры только начинались. Они были веселы и нетерпеливы, как мартовские сосульки, приуготовленные зазевавшимся черепам ленивых сограждан.
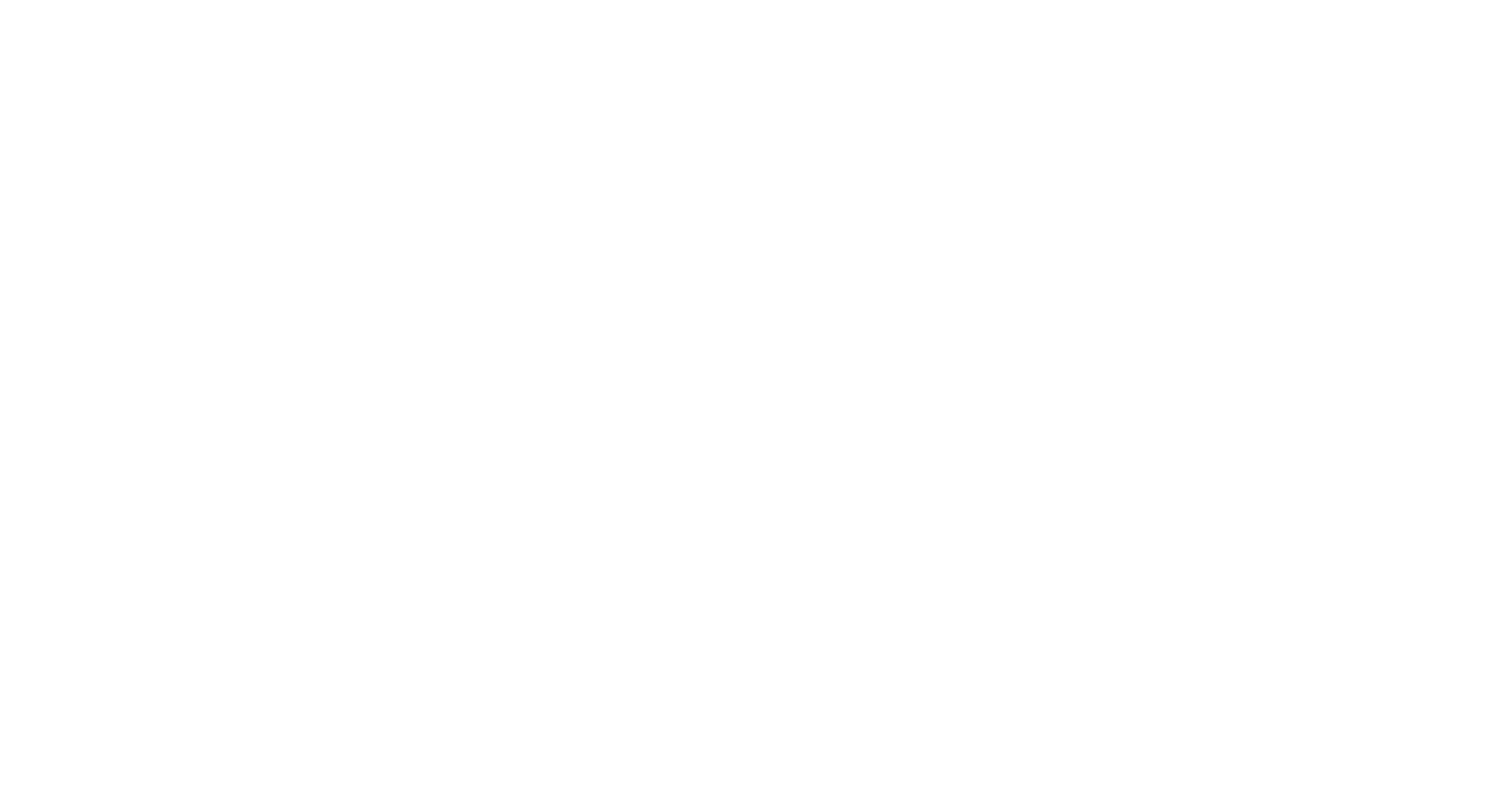
Я смотрел лиловой машинке прямо в узнаваемое лицо. Именно лицо, не ***. Это у меня (и таких как я) — ***, а у них — лицо. И вынудить другое слово не позволяет язык. Лиловая машинка не возражала. Она привыкла к этой системе взглядов. К безнадежности, устремленной в недостижимое. Иначе этот комплект фар на серебряном радиаторе никогда не напоминал бы ослика Иа-Иа.
Галина Иллириковна Шрамкова научила меня следующему. Когда ты смотришь на картину (скульптуру, королевскую карету, архиерейскую золотую солонку и/или т. п.), она меняется. Как бы под воздействием твоих глаз. Ищущих и алчущих иллюзорного приключения. И меняешься ты — под властью ее (картины, королевской кареты, архиерейской солонки) художественного высказывания. Поэтому ты не просто уже зритель. С того мгновения, когда ты задержался у холста/полотна хотя бы на 0,6 секунды (этаноловое число Белковского, как мы помним), ты — составная часть единого целого. Младший (а может когда и старший, и равноправный) партнер в произведении искусства. В русском языке, не привычном к такой казуистической ереси, для всего этого даже термина не существует. А в английском, который захламлен всем нужным человечеству под завязку, есть: beholder. И этот beholder ой как отличается от банального РФного зрителя, хочу я вам объяснить. Ибо, если подойти к делу со всем вдохновенным профессионализмом, можно продать картину (карету, солонку и маленькую собачонку) вместе с тобой самим. Скажем. Впариваем арабским недомеркам фиктивного «Спасителя мира», приписанного Леонардо да Винчи. Но в комплекте отгружаем и бихолдера Стасика Белковского. И тогда, когда дубайские варвары приходят к нам с липкой лентой и соляною кислотой, говорим им в свое и всеобщее оправдание: позвольте, дорогие коллеги, какой еще фальшак! Ну, сальватора мунди может и накорябали монмартрские мастера у дверей Crazy Horse, чтобы рассчитаться за дикую ночь любви. Но Белковский-то у нас, как часть артистического шедевра, самый настоящий! На него и провенанс, и техпаспорт имеются. Так что четыреста миллионов евро обратно вы не получите! А соляную кислоту можете залить себе в беспокойную жопу, там ей самое верное место.
Конечно, взволнованные шейхи, не владеющие английским до бихолдерской стадии, все равно могут потащить Стасика в стамбульское консульство (кстати, это правда, что именно турки выдумали дудук?) и отрезать там его никчемную голову. Но формата и параметров сделки это уже не изменит. Все равно все остается по-честному, как и затевалось издревле. А «Смерть бихолдера» может стать сценарием для крутейшего детектива. Умереть в рамках самой скандальной сделки в истории изобразительного искусства — что может быть питательней для отцветшего вереска еврейского тщеславия!
Вот так где-то и автомобиль «Бентли». Нет, 400 миллионов даже он не стоит. Но если посмотреть на него дольше 0,6 секунды, тоже ощущаешь себя beholder. Сливаешься воедино с объектом твоего созерцания. А потому и кожа твоя уже не шелушится с похмелья, а пахнет бледно-розовой алькантарой. И в ногах твоих — не артритное месиво, но 600 лошадиных сил. Руки — не просто слабые огрызки пастозного тела, а никелированные и полированные. И в мозгу твоем гремит неземной частотой аудиосистема Naim Mu-Sо. Сверх того, тебе не нужен внешний интернет, потому что у тебя в собственном салоне, где-то между почками и желчным пузырем — полноценный wi-fi с элементами 6G. И логотип — первая буква твоего второго имени в обрамлении ангельских крыл — прямо просится в сферический центр лба.
Если бы я сумел доказать, что настоящий beholder, может быть, даже первый полноценный субъект такого жанра в Российской Федерации, то выправил бы новые документы (в смысле — общегражданский паспорт). Например, на тройную фамилию. Типа Белковский Flying Spur. И когда бы я стал Белковский Flying Spur, да еще с крылатым логотипом во лбу, социальный капитал мой вырос бы на два порядка. И уже никакие шестерки типа Петра-Семена-204 из окружения профессора Рыболовлева так со мной бы не разговаривали. А глазели бы на меня восторженно и радостно, как я — на праздничные искусственные произведения.
А рядом скорбно отмерзал первопечатник Иван Федоров. В образе согбенного памятника. Г-на Федорова еще называют «друкарь». От немецкого глагола druecken — печатать. Ибо всякая нерукотворная письменность у нас, по смыслу, весьма немецкая.
Перводрукарь, понасмотревшись на кришталевую роскошь Третьяковского проезда, давно уже понял: печатать надо было не книги, пусть даже самые первосвященные, но купюры. Печатным станком надо овладеть таким, какой он и есть в анналах ЦБ РФ. Тогда и можно зажить помаленечку, не обращая внимания ни на каких братьев Россетти, будь они трижды высокомерны. Но друкарь не сделался купюропечатником. Историческое время ушло. Он грустит, но каменная жизнь останется бронзово неизменной. На века.
И я, конечно, хотел бы, чтобы сейчас тихо остановился каталожный «Бентли» о двух вертикальных дверях. С затемненными, как образы Караваджо, стеклами. И я сразу сел на переднее пассажирское сиденье. Поскольку за рулем — Лаура. И мы поедем праздновать Рождество куда-нибудь в гостиницу «Лотте Плаза», в высокой кухни ресторан Pierre Gagniere. Гостиница корейская, а ресторан французский, но это не важно. Важно — что никогда такого теперь не случится.
Не жалею, не зову, и хер с ним.
Это и есть мой сочельник.
Завтра Вена и Рождество. У них — нет, но у меня — да.
Меня не прогнали от бутика. Я ушел сам. И вернулся туда, откуда заберет меня, ровно в означенный час, авто с зелеными номерами.
Странно. Там работал телевизор. Я забыл его выключить. Хотя, даже если я и забыл, в предвкушении от лика Иа-Иа, он не должен был вещать никак. Т. к. сломался почти пять лет назад. Во дни присоединения Крыма. Не выдержав штурма и дранга правительствующей пропаганды.
Но теперь он транслировал мне что-то красивое, как Снегурочка после первого бокала шампанского и до третьей рюмки водки. Танец. Кажется, танго. Я бы даже сказал, либертанго. Астор Пьяццола. Совершенно красная пара, вылетающая из мрака.
Нет, не совсем красная. Это обширная дама — в алом платье, с разрезом до цилиндрического бедра. Платье, кажется, Sonia Rykiel. Вот какие термины я снова помню, когда собрался к Питеру Брейгелю! А кавалер, напротив, сжатый, компактный. В рыжей ковбойской куртке. И синих штанишках ценой во всю мою жизнь.
Они танцуют самозабвенно. Как в последний раз. Словно завтра их поведут в камеру к министру экономики, не знающему смысла инфляции. И там они пропадут все вместе, лишенные оглушающих технологий либертарианского танго.
Говорил же я когда-то Астору Пьяццоле: не связывайся!.. А он…
И вот — красное платье / синие штанишки вырываются из пламени танца. И скачут прямо на меня. К тыльной стороне экрана. Где уже поставлены для них мохнатые микрофоны. Чтобы рассказать что-то громкое, неуместное между музыкой. И я узнаю этих томных лихих тангерос, во что бы то ни стало.
Галина Иллириковна Шрамкова научила меня следующему. Когда ты смотришь на картину (скульптуру, королевскую карету, архиерейскую золотую солонку и/или т. п.), она меняется. Как бы под воздействием твоих глаз. Ищущих и алчущих иллюзорного приключения. И меняешься ты — под властью ее (картины, королевской кареты, архиерейской солонки) художественного высказывания. Поэтому ты не просто уже зритель. С того мгновения, когда ты задержался у холста/полотна хотя бы на 0,6 секунды (этаноловое число Белковского, как мы помним), ты — составная часть единого целого. Младший (а может когда и старший, и равноправный) партнер в произведении искусства. В русском языке, не привычном к такой казуистической ереси, для всего этого даже термина не существует. А в английском, который захламлен всем нужным человечеству под завязку, есть: beholder. И этот beholder ой как отличается от банального РФного зрителя, хочу я вам объяснить. Ибо, если подойти к делу со всем вдохновенным профессионализмом, можно продать картину (карету, солонку и маленькую собачонку) вместе с тобой самим. Скажем. Впариваем арабским недомеркам фиктивного «Спасителя мира», приписанного Леонардо да Винчи. Но в комплекте отгружаем и бихолдера Стасика Белковского. И тогда, когда дубайские варвары приходят к нам с липкой лентой и соляною кислотой, говорим им в свое и всеобщее оправдание: позвольте, дорогие коллеги, какой еще фальшак! Ну, сальватора мунди может и накорябали монмартрские мастера у дверей Crazy Horse, чтобы рассчитаться за дикую ночь любви. Но Белковский-то у нас, как часть артистического шедевра, самый настоящий! На него и провенанс, и техпаспорт имеются. Так что четыреста миллионов евро обратно вы не получите! А соляную кислоту можете залить себе в беспокойную жопу, там ей самое верное место.
Конечно, взволнованные шейхи, не владеющие английским до бихолдерской стадии, все равно могут потащить Стасика в стамбульское консульство (кстати, это правда, что именно турки выдумали дудук?) и отрезать там его никчемную голову. Но формата и параметров сделки это уже не изменит. Все равно все остается по-честному, как и затевалось издревле. А «Смерть бихолдера» может стать сценарием для крутейшего детектива. Умереть в рамках самой скандальной сделки в истории изобразительного искусства — что может быть питательней для отцветшего вереска еврейского тщеславия!
Вот так где-то и автомобиль «Бентли». Нет, 400 миллионов даже он не стоит. Но если посмотреть на него дольше 0,6 секунды, тоже ощущаешь себя beholder. Сливаешься воедино с объектом твоего созерцания. А потому и кожа твоя уже не шелушится с похмелья, а пахнет бледно-розовой алькантарой. И в ногах твоих — не артритное месиво, но 600 лошадиных сил. Руки — не просто слабые огрызки пастозного тела, а никелированные и полированные. И в мозгу твоем гремит неземной частотой аудиосистема Naim Mu-Sо. Сверх того, тебе не нужен внешний интернет, потому что у тебя в собственном салоне, где-то между почками и желчным пузырем — полноценный wi-fi с элементами 6G. И логотип — первая буква твоего второго имени в обрамлении ангельских крыл — прямо просится в сферический центр лба.
Если бы я сумел доказать, что настоящий beholder, может быть, даже первый полноценный субъект такого жанра в Российской Федерации, то выправил бы новые документы (в смысле — общегражданский паспорт). Например, на тройную фамилию. Типа Белковский Flying Spur. И когда бы я стал Белковский Flying Spur, да еще с крылатым логотипом во лбу, социальный капитал мой вырос бы на два порядка. И уже никакие шестерки типа Петра-Семена-204 из окружения профессора Рыболовлева так со мной бы не разговаривали. А глазели бы на меня восторженно и радостно, как я — на праздничные искусственные произведения.
А рядом скорбно отмерзал первопечатник Иван Федоров. В образе согбенного памятника. Г-на Федорова еще называют «друкарь». От немецкого глагола druecken — печатать. Ибо всякая нерукотворная письменность у нас, по смыслу, весьма немецкая.
Перводрукарь, понасмотревшись на кришталевую роскошь Третьяковского проезда, давно уже понял: печатать надо было не книги, пусть даже самые первосвященные, но купюры. Печатным станком надо овладеть таким, какой он и есть в анналах ЦБ РФ. Тогда и можно зажить помаленечку, не обращая внимания ни на каких братьев Россетти, будь они трижды высокомерны. Но друкарь не сделался купюропечатником. Историческое время ушло. Он грустит, но каменная жизнь останется бронзово неизменной. На века.
И я, конечно, хотел бы, чтобы сейчас тихо остановился каталожный «Бентли» о двух вертикальных дверях. С затемненными, как образы Караваджо, стеклами. И я сразу сел на переднее пассажирское сиденье. Поскольку за рулем — Лаура. И мы поедем праздновать Рождество куда-нибудь в гостиницу «Лотте Плаза», в высокой кухни ресторан Pierre Gagniere. Гостиница корейская, а ресторан французский, но это не важно. Важно — что никогда такого теперь не случится.
Не жалею, не зову, и хер с ним.
Это и есть мой сочельник.
Завтра Вена и Рождество. У них — нет, но у меня — да.
Меня не прогнали от бутика. Я ушел сам. И вернулся туда, откуда заберет меня, ровно в означенный час, авто с зелеными номерами.
Странно. Там работал телевизор. Я забыл его выключить. Хотя, даже если я и забыл, в предвкушении от лика Иа-Иа, он не должен был вещать никак. Т. к. сломался почти пять лет назад. Во дни присоединения Крыма. Не выдержав штурма и дранга правительствующей пропаганды.
Но теперь он транслировал мне что-то красивое, как Снегурочка после первого бокала шампанского и до третьей рюмки водки. Танец. Кажется, танго. Я бы даже сказал, либертанго. Астор Пьяццола. Совершенно красная пара, вылетающая из мрака.
Нет, не совсем красная. Это обширная дама — в алом платье, с разрезом до цилиндрического бедра. Платье, кажется, Sonia Rykiel. Вот какие термины я снова помню, когда собрался к Питеру Брейгелю! А кавалер, напротив, сжатый, компактный. В рыжей ковбойской куртке. И синих штанишках ценой во всю мою жизнь.
Они танцуют самозабвенно. Как в последний раз. Словно завтра их поведут в камеру к министру экономики, не знающему смысла инфляции. И там они пропадут все вместе, лишенные оглушающих технологий либертарианского танго.
Говорил же я когда-то Астору Пьяццоле: не связывайся!.. А он…
И вот — красное платье / синие штанишки вырываются из пламени танца. И скачут прямо на меня. К тыльной стороне экрана. Где уже поставлены для них мохнатые микрофоны. Чтобы рассказать что-то громкое, неуместное между музыкой. И я узнаю этих томных лихих тангерос, во что бы то ни стало.
Это:
- министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль;
- президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Кажется, все происходит на свадьбе г-жи Кнайсль. Которая недавно вышла замуж за нашего банкира Матвея Урина. Покушавшегося как-то на родственников г-на Путина, но горестно промахнувшегося. И вот на бракосочетании гг. Урина — Кнайсль наш лидер еще пару месяцев назад играл роль крестьянского колдуна. Стало быть, все это в записи. Эти красивые пожилые люди никогда не принялись бы публично танцевать второй раз. Между собой, а не просто вообще.
А раз мохнатые микрофоны — значит, пресс-конференция. Или брифинг. Я, когда условно трезвый, могу различать между такими понятиями. Но в целом — ясно и безо всяких формальностей. Пресс-конференция — это когда обманывают полностью. А брифинг — когда вообще ничего не говорят. И потому — никого не обманывают.
Live. Кругом лампочки, красные, как министерское платье. Соня Рикель.
А раз мохнатые микрофоны — значит, пресс-конференция. Или брифинг. Я, когда условно трезвый, могу различать между такими понятиями. Но в целом — ясно и безо всяких формальностей. Пресс-конференция — это когда обманывают полностью. А брифинг — когда вообще ничего не говорят. И потому — никого не обманывают.
Live. Кругом лампочки, красные, как министерское платье. Соня Рикель.
«Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, спасибо большое всем, кто посетил юбилейную выставку Питера Брейгеля-старшего. В нашей столице Вене, в Музее истории искусств. Выставка была приурочена к 450-летию со дня появления этого гения северной живописи. Все прошло с огромным успехом. Мы заработали более 100 миллионов евро на реконструкцию Музея, расположенного в небольшом, но уютном дворце фамилии Габсбургов. Мы создали 30 тысяч рабочих мест для экскурсоводов и лекторов. Наконец, мы продали сувенирной продукции на полмиллиарда. Одни налоги с торжеств памяти Брейгеля превысили годовой доход городов Линц и Грац, вместе взятых. Человечество вспомнило, где находится Австрия вообще и Вена в частности. Это наш с вами общий грандиозный успех».
«Да, все так. Успех беспрецедентный. Не только для Австрийской Республики. Но и лично для госпожи Кнайсль. Ведь именно на выставке она встретила своего будущего, а теперь уже нынешнего мужа. Гражданина Российской Федерации, между прочим. Освободившись из мест лишения свободы за обман вкладчиков-козлов, он переехал в Вену и устроился на работу в Музей истории искусств. Простым такелажником для подсобных помещений. Но настоящая любовь, она же и демократия, сильнее социальных различий. Не верит в приметы. Не боится призраков прошлого. Я искренне поздравляю сегодня Карин и Матвея. И хочу отметить особо. Все картины так называемого Брейгеля-старшего на выставке — фальшивые. Копии. Их сделали наши российские умельцы, подлинные таланты, студенты Строгановского института в столичном месте Москве. Пришло время признать актуальную геополитическую реальность. Вас откровенно ***, дамы и господа. Вы отдали сотни миллионов евро за полную туфту. И мы, все вместе, дети мира, жители семи континентов, доказали еще раз: никакой разницы между подлинником и подделкой нет. Да нет и самого подлинника. Он давно утрачен. Остались только фальшивки разной степени качества. И те, что мы сделали для Кунстмузеума, — из числа наилучших. Для лохов высших категорий избранничества. Надеюсь, никто не потребует деньги назад. А если и потребует — уже поздно. Их все равно ***. В полном сокровенном объеме. Давайте поднимем лучше бокалы за Карин и Матвея, и за непременного свидетеля наших торжеств — Питера Брейгеля-старшего. Горько!»
И здесь почему-то Карин и Владимир Владимирович начали целоваться в губы. Сами. Как молодожены. А такелажный бедняга Урин ушел куда-то на задний план.
Господи Иисусе Христе, останови эту нереальную вакханалию!
Да.
Тяжелый останов.
Я переутомился от лицезрения «Бентли» и заснул в кресле. Сломанный ящик мой был хладен и пуст, как лоб усопшего мертвеца (как будто мертвец бывает неусопший. — С. Б.).
Главное — не проспать уже завтра.
Ведь до конца почти ничего не осталось.
Господи Иисусе Христе, останови эту нереальную вакханалию!
Да.
Тяжелый останов.
Я переутомился от лицезрения «Бентли» и заснул в кресле. Сломанный ящик мой был хладен и пуст, как лоб усопшего мертвеца (как будто мертвец бывает неусопший. — С. Б.).
Главное — не проспать уже завтра.
Ведь до конца почти ничего не осталось.
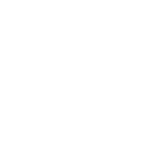
Эх, Грета, Грета, как же у меня выпадают волосы! Совсем скоро ничего не останется. И даже спортивные шапочки не спасают. Я три потерял, но двое еще живехоньки. Где-то здесь, под газетами.
— А ты поливай голову морковным отваром, — сказала бы ты. — И волосы отрастут обратно. Каждый день. На самую макушку. Кастрюлю теплого морковного отвара. Не горячего и не ледяного. Теплого. Мудила.
— А ты поливай голову морковным отваром, — сказала бы ты. — И волосы отрастут обратно. Каждый день. На самую макушку. Кастрюлю теплого морковного отвара. Не горячего и не ледяного. Теплого. Мудила.
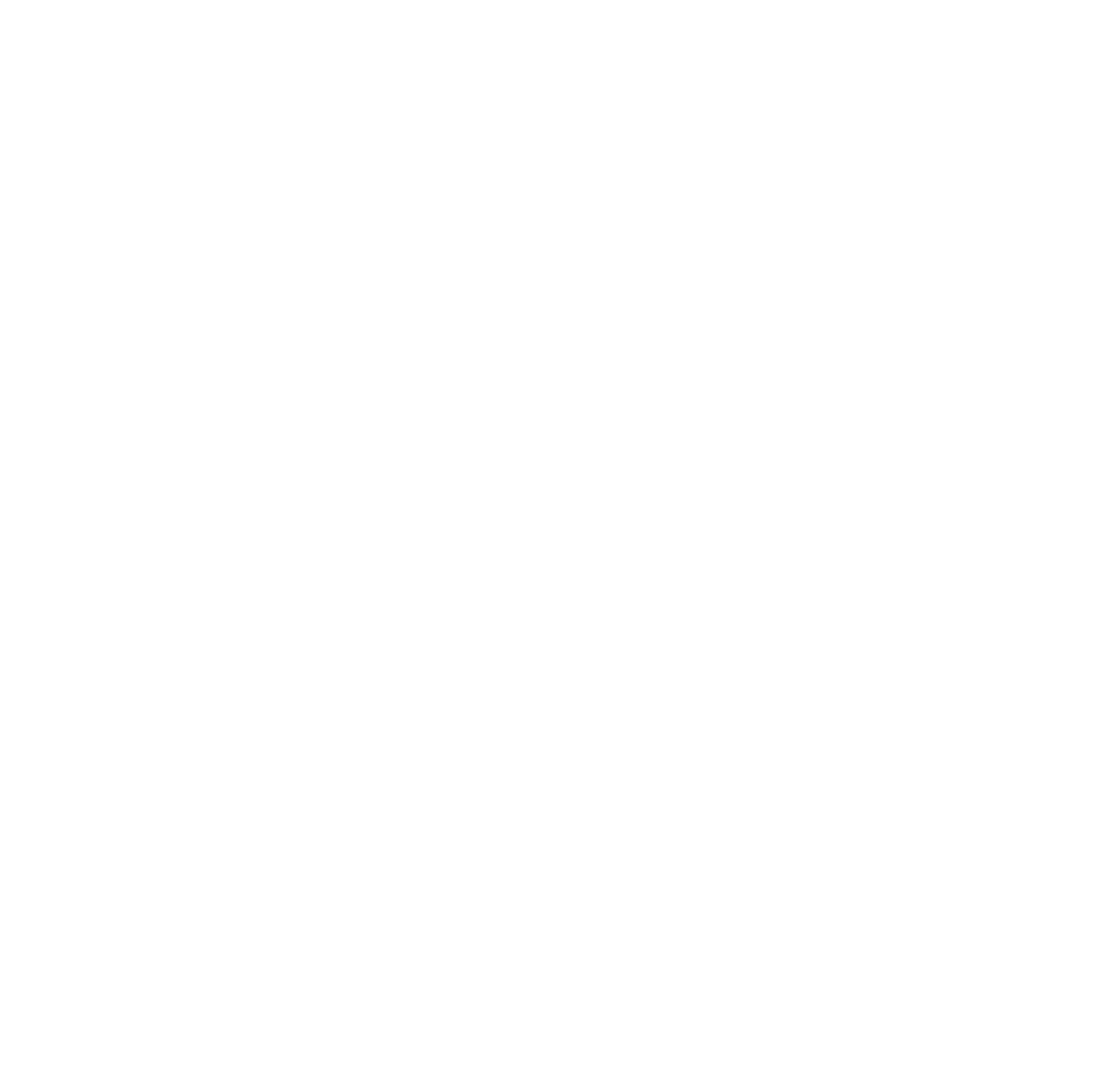
— А еще хотел тебя спросить. Ты ведь всех знаешь. Вот, митрополит из «Диптиха».
— Тенгиз Карлович? Сын великого футболиста.
— Почему он Карлович, если отец его — Тенгиз?
— А ты что, не понимаешь?
— Нет. Правда нет.
— Потому что ты мудак.
И закурила бы ужасно страшный «Рамштайн».
— Тенгиз Карлович? Сын великого футболиста.
— Почему он Карлович, если отец его — Тенгиз?
— А ты что, не понимаешь?
— Нет. Правда нет.
— Потому что ты мудак.
И закурила бы ужасно страшный «Рамштайн».
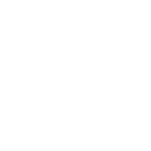
В самолете я спал дотла. Не помню ничего. Наверное, они сделали мне символическую инъекцию.
Если б такую инъекцию мне делали каждый день, я не пил бы больше никогда. И хорошо бы спал. Не нуждаясь ни в каких деньгах. Когда человек не покидает жилища, деньги ему не нужны.
Это подмечено еще древними.
С Патриков в Мячиково (если это было оно, какая разница!) меня вез «УАЗ-Патриот». С зелеными номерами, перепутать практически невозможно. А здесь, с американской базы любовных летчиков, — очень грязный «Форд Фокус». Машина для конспирации должна быть грязной, чтобы никто не захотел увидеть в ней своего отражения.
Я не узнавал этой Вены. Она была другая, игрушечная, из конструктора типа «Лего». Может быть, и не Вена? А какая-то фальсификация-мистификация? И Брейгель-старший окажется не таким настоящим. Разведки любят устраивать новогодние представления.
А ведь уже случился 2019 год. Я встретил его один, в полутора комнатах ленинской еще постройки. С тремя бутылками коктейля из детского игристого и любимой «Праздничной». Которую я выпил в околотке почти уже всю, но немного еще оставалось. На случай, если я приду за ней вспять.
В военном самолете кормили только пивом. И было слишком шумно. Как будто на борту шла прямая трансляция митинга против захоронения мусора. Но я спал. И не слышал ничего подобного. И схоронили ли мусор в итоге, не знаю. Про пиво — немного. Оно мне досталось. Я не смел его пропустить.
А ведь уже сумерки. Сколько ж мы летели в Рамштайн? Скорей всего, не напрямую, а хитрыми шпионскими тропами. «Остриан Эйрлайнз» пыхтит из Домодедова в Вену часа три, да? Два с половиной? А здесь часа четыре, не меньше. Плюс путь с американской базы до австрийского музея. Через неохраняемую границу немцев с австрийцами. Никак не меньше семи вечера получается. Но музей же закрывается в семь. Я в расписании видел. Как же попаду я на выставку? Зачем мне думать. Первый и Второй уж точно знают, что делают. Провалились в Солсбери, верно. Но впервые только. Зато какой опыт!
Ну да. Ищу рукавиц, а обе за поясом. Мы же движемся к служебному входу. Там мне откроют и после финиша расписания. Я отдам конверт вахтеру и останусь в музее один. С Брейгелем-старшим, и больше никого.
Ох, дурилка ты картонная, Белковский! В том же и весь замысел. Если бы ты пришел в рабочие часы, сработал бы запрет-2004 о самоубийстве Саула. Тебя повязали бы и в кутузку. А так ты окажешься в здании поверх всех запретов. И вытворяй все, что хочешь. Можно заблевать даже «Падение Икара». Желания, правда, никакого нету. Пусть оно остается, как есть. С целлюлитными ножками посмертного безразличия.
Вот оно. Музей. Я был там только дважды. Второй раз вот со скандалом. Этот императорский абрис больно вытеснился из моей памяти. Так что я проверял по интернету фасад и облик вообще. Узнаю ли?
Узнал.
Площадь Марии Терезии. Задворки.
Стеклянная плоская дверь с признаками пластиковой решетки. Все верно. «Форд Фокус», тряхнув всеми полчищами рамштайновой грязи, останавливается. Я выхожу. Инстинктивно хлопаю себя по грудным карманам. Да, конверт здесь. Все на месте. Я не *** его. И командировочные — в правой поверхности поролонового пальто. Во всеоружии. Как говорит в таких случаях наша молодежь: кто молодец? Я молодец.
Командировочные оказались скромные. Но шерстяные ботинки они мне уже купили, остальное не так уж важно.
Вход. Там полная женщина в мерцающей седине. Ее пятиалтынный нос хорошо знаком мне по жизни.
— Грета?
— Стасик? Я как знала, что они пришлют тебя.
Рукопожатие, без объятий. Она сейчас трезва (ну, наполовину, ибо совсем не бывает) и потому не язвительна. Не будет ни про Лауру, ни про морковный отвар.
— Ты все-таки лысеешь, Белковский. Не обливаешься морковным отваром.
— Лень готовить, Гретхен. И с тех пор, как микроволновка вконец поломалась. Но разве за пять лет волос стало меньше?
— Нет. Их не стало меньше. Их совсем почти не осталось.
В этой Вене еще был ветер. Значит, не все потеряно. Оно настоящее. Я прорву кордон и окажусь у Брейгеля. Уже сегодня. Сейчас.
— Где мой пакет?
— Вот он. Грета.
— Посиди пять минут в моей каптерке. Я приду. Посиди.
Вот почему я долго не мог найти эту женщину. Она работает в Кунстхисторишес Музеум привратником. Как Аглая Денисовна — при «Горбатой горе». Хотя я ведь только что видел Грету на Патриарших. Нет ли здесь противоречия? Нет. У нее были отгулы за переработку на выставке. Сюда же ломились миллионы, со всего мира. Сотни тысяч одних русских и приравненных к ним человечьих животных. Утомится любой, даже Гретхен. Теперь она снова здесь. И запустит меня до завершения выставки. Я верю. Нет. Верить я не могу. Я просто надеюсь. Это надежней. Не бывает ничего надежней надежды. Сказано и велено. Кажется.
Каптерка почти пуста. В ней куча ключей и проводов белого, синего и красного замеса. Я мог бы схватить кусачки и обесточить музей целиком. Это куда круче, чем заблевать картину. Но у меня нет кусачек. И я постарел.
— Белковский. Все готово. Пойдем в сквер напротив. Выпьем виски. Как следует, а не по маленькой. Хватай вон те фаянсовые стаканы.
У нее действительно есть литровая «Джеймисона»! Не фейк и не блеф.
— Как же, Гретхен. Мне надо в музей. Ты должна меня проводить. Выставка вот-вот закрывается. И мне еще писать рецензию. В «Коммерсант». По просьбе Дмитрия Евгеньевича. Иначе он не станет больше со мной дружить.
Она — непреклонно:
— Ты все равно не будешь писать никакую рецензию. У тебя давно уже нет концентрации. Чтобы писать рецензии — нужна концентрация. А у тебя ее нет. Идем выпивать. А выставку — скоро увидишь. Такую, какую нигде.
Это было метров пятьсот от музея. Мы вскрыли литровый «Джеймисон». Давно я не испытывал сравнимого блаженства. Нет, не от вкуса и даже не от прихода, который не успевал наступить. А оттого, что не надо было, впервые после отпевания Нельсона Манделы, экономить по 50 грамм.
Да. И я увидел выставку. Грета оказалась права. Как это с ней часто случалось и в прошлом.
Икар вылез из пляжного моря и снова приблизился к Солнцу.
Крылья пламени вынырнули из-под купола габсбургского хранилища. Это был огонь. Настоящий, не бутафорский. Пятьдесят, сто, сто пятьдесят. Он охватил уже и верхний этаж, холопскую мансарду, и двинулся вниз. Впервые я видел, как пламя идет к обратную сторону. С неба — к земле. Под тяжестью всего, содеянного не им. Не пламенем. А так называемым человечеством.
Так и будет потом, во дни восхищения церкви. А я увидел это уже при жизни.
— Что это, Грета?
— Это пожар, Стасик.
Огонь охватил Брейгеля-старшего. Это ясно. Мастер стонал так, что я с трудом слышал мою старую женщину. Вой разгонялся на всю Вену, на Австрию, на Габсбургское государство. Священную римскую империю германской нации. Евросоюз и НАТО. ОБСЕ и ЕСПЧ. Кричало все, что еще не вконец онемело. Красные грузовики надвигались со всех концов мироздания.
И огонь, огонь! Я вдруг понял, какого он цвета. Раньше просто никогда не задумывался. А теперь осознал, как вину. Когда огня много, колорит его является во всей полноте. Он не красный и не желтый. А невыносимый, как Солнце. Субстанция невыносимого цвета. Так оно называется.
Когда-то, в начале девяностых годов двадцатого века, астролог научил меня, что Стасику никак нельзя связываться с тремя субстанциями: насилием, оружием и огнем. Я и не связываюсь. Они сами находят меня, как голодные бандиты — подкрышного коммерсанта.
— И все сгорит, Грета?
— Все, Стасик. От начала и до конца.
Если б такую инъекцию мне делали каждый день, я не пил бы больше никогда. И хорошо бы спал. Не нуждаясь ни в каких деньгах. Когда человек не покидает жилища, деньги ему не нужны.
Это подмечено еще древними.
С Патриков в Мячиково (если это было оно, какая разница!) меня вез «УАЗ-Патриот». С зелеными номерами, перепутать практически невозможно. А здесь, с американской базы любовных летчиков, — очень грязный «Форд Фокус». Машина для конспирации должна быть грязной, чтобы никто не захотел увидеть в ней своего отражения.
Я не узнавал этой Вены. Она была другая, игрушечная, из конструктора типа «Лего». Может быть, и не Вена? А какая-то фальсификация-мистификация? И Брейгель-старший окажется не таким настоящим. Разведки любят устраивать новогодние представления.
А ведь уже случился 2019 год. Я встретил его один, в полутора комнатах ленинской еще постройки. С тремя бутылками коктейля из детского игристого и любимой «Праздничной». Которую я выпил в околотке почти уже всю, но немного еще оставалось. На случай, если я приду за ней вспять.
В военном самолете кормили только пивом. И было слишком шумно. Как будто на борту шла прямая трансляция митинга против захоронения мусора. Но я спал. И не слышал ничего подобного. И схоронили ли мусор в итоге, не знаю. Про пиво — немного. Оно мне досталось. Я не смел его пропустить.
А ведь уже сумерки. Сколько ж мы летели в Рамштайн? Скорей всего, не напрямую, а хитрыми шпионскими тропами. «Остриан Эйрлайнз» пыхтит из Домодедова в Вену часа три, да? Два с половиной? А здесь часа четыре, не меньше. Плюс путь с американской базы до австрийского музея. Через неохраняемую границу немцев с австрийцами. Никак не меньше семи вечера получается. Но музей же закрывается в семь. Я в расписании видел. Как же попаду я на выставку? Зачем мне думать. Первый и Второй уж точно знают, что делают. Провалились в Солсбери, верно. Но впервые только. Зато какой опыт!
Ну да. Ищу рукавиц, а обе за поясом. Мы же движемся к служебному входу. Там мне откроют и после финиша расписания. Я отдам конверт вахтеру и останусь в музее один. С Брейгелем-старшим, и больше никого.
Ох, дурилка ты картонная, Белковский! В том же и весь замысел. Если бы ты пришел в рабочие часы, сработал бы запрет-2004 о самоубийстве Саула. Тебя повязали бы и в кутузку. А так ты окажешься в здании поверх всех запретов. И вытворяй все, что хочешь. Можно заблевать даже «Падение Икара». Желания, правда, никакого нету. Пусть оно остается, как есть. С целлюлитными ножками посмертного безразличия.
Вот оно. Музей. Я был там только дважды. Второй раз вот со скандалом. Этот императорский абрис больно вытеснился из моей памяти. Так что я проверял по интернету фасад и облик вообще. Узнаю ли?
Узнал.
Площадь Марии Терезии. Задворки.
Стеклянная плоская дверь с признаками пластиковой решетки. Все верно. «Форд Фокус», тряхнув всеми полчищами рамштайновой грязи, останавливается. Я выхожу. Инстинктивно хлопаю себя по грудным карманам. Да, конверт здесь. Все на месте. Я не *** его. И командировочные — в правой поверхности поролонового пальто. Во всеоружии. Как говорит в таких случаях наша молодежь: кто молодец? Я молодец.
Командировочные оказались скромные. Но шерстяные ботинки они мне уже купили, остальное не так уж важно.
Вход. Там полная женщина в мерцающей седине. Ее пятиалтынный нос хорошо знаком мне по жизни.
— Грета?
— Стасик? Я как знала, что они пришлют тебя.
Рукопожатие, без объятий. Она сейчас трезва (ну, наполовину, ибо совсем не бывает) и потому не язвительна. Не будет ни про Лауру, ни про морковный отвар.
— Ты все-таки лысеешь, Белковский. Не обливаешься морковным отваром.
— Лень готовить, Гретхен. И с тех пор, как микроволновка вконец поломалась. Но разве за пять лет волос стало меньше?
— Нет. Их не стало меньше. Их совсем почти не осталось.
В этой Вене еще был ветер. Значит, не все потеряно. Оно настоящее. Я прорву кордон и окажусь у Брейгеля. Уже сегодня. Сейчас.
— Где мой пакет?
— Вот он. Грета.
— Посиди пять минут в моей каптерке. Я приду. Посиди.
Вот почему я долго не мог найти эту женщину. Она работает в Кунстхисторишес Музеум привратником. Как Аглая Денисовна — при «Горбатой горе». Хотя я ведь только что видел Грету на Патриарших. Нет ли здесь противоречия? Нет. У нее были отгулы за переработку на выставке. Сюда же ломились миллионы, со всего мира. Сотни тысяч одних русских и приравненных к ним человечьих животных. Утомится любой, даже Гретхен. Теперь она снова здесь. И запустит меня до завершения выставки. Я верю. Нет. Верить я не могу. Я просто надеюсь. Это надежней. Не бывает ничего надежней надежды. Сказано и велено. Кажется.
Каптерка почти пуста. В ней куча ключей и проводов белого, синего и красного замеса. Я мог бы схватить кусачки и обесточить музей целиком. Это куда круче, чем заблевать картину. Но у меня нет кусачек. И я постарел.
— Белковский. Все готово. Пойдем в сквер напротив. Выпьем виски. Как следует, а не по маленькой. Хватай вон те фаянсовые стаканы.
У нее действительно есть литровая «Джеймисона»! Не фейк и не блеф.
— Как же, Гретхен. Мне надо в музей. Ты должна меня проводить. Выставка вот-вот закрывается. И мне еще писать рецензию. В «Коммерсант». По просьбе Дмитрия Евгеньевича. Иначе он не станет больше со мной дружить.
Она — непреклонно:
— Ты все равно не будешь писать никакую рецензию. У тебя давно уже нет концентрации. Чтобы писать рецензии — нужна концентрация. А у тебя ее нет. Идем выпивать. А выставку — скоро увидишь. Такую, какую нигде.
Это было метров пятьсот от музея. Мы вскрыли литровый «Джеймисон». Давно я не испытывал сравнимого блаженства. Нет, не от вкуса и даже не от прихода, который не успевал наступить. А оттого, что не надо было, впервые после отпевания Нельсона Манделы, экономить по 50 грамм.
Да. И я увидел выставку. Грета оказалась права. Как это с ней часто случалось и в прошлом.
Икар вылез из пляжного моря и снова приблизился к Солнцу.
Крылья пламени вынырнули из-под купола габсбургского хранилища. Это был огонь. Настоящий, не бутафорский. Пятьдесят, сто, сто пятьдесят. Он охватил уже и верхний этаж, холопскую мансарду, и двинулся вниз. Впервые я видел, как пламя идет к обратную сторону. С неба — к земле. Под тяжестью всего, содеянного не им. Не пламенем. А так называемым человечеством.
Так и будет потом, во дни восхищения церкви. А я увидел это уже при жизни.
— Что это, Грета?
— Это пожар, Стасик.
Огонь охватил Брейгеля-старшего. Это ясно. Мастер стонал так, что я с трудом слышал мою старую женщину. Вой разгонялся на всю Вену, на Австрию, на Габсбургское государство. Священную римскую империю германской нации. Евросоюз и НАТО. ОБСЕ и ЕСПЧ. Кричало все, что еще не вконец онемело. Красные грузовики надвигались со всех концов мироздания.
И огонь, огонь! Я вдруг понял, какого он цвета. Раньше просто никогда не задумывался. А теперь осознал, как вину. Когда огня много, колорит его является во всей полноте. Он не красный и не желтый. А невыносимый, как Солнце. Субстанция невыносимого цвета. Так оно называется.
Когда-то, в начале девяностых годов двадцатого века, астролог научил меня, что Стасику никак нельзя связываться с тремя субстанциями: насилием, оружием и огнем. Я и не связываюсь. Они сами находят меня, как голодные бандиты — подкрышного коммерсанта.
— И все сгорит, Грета?
— Все, Стасик. От начала и до конца.
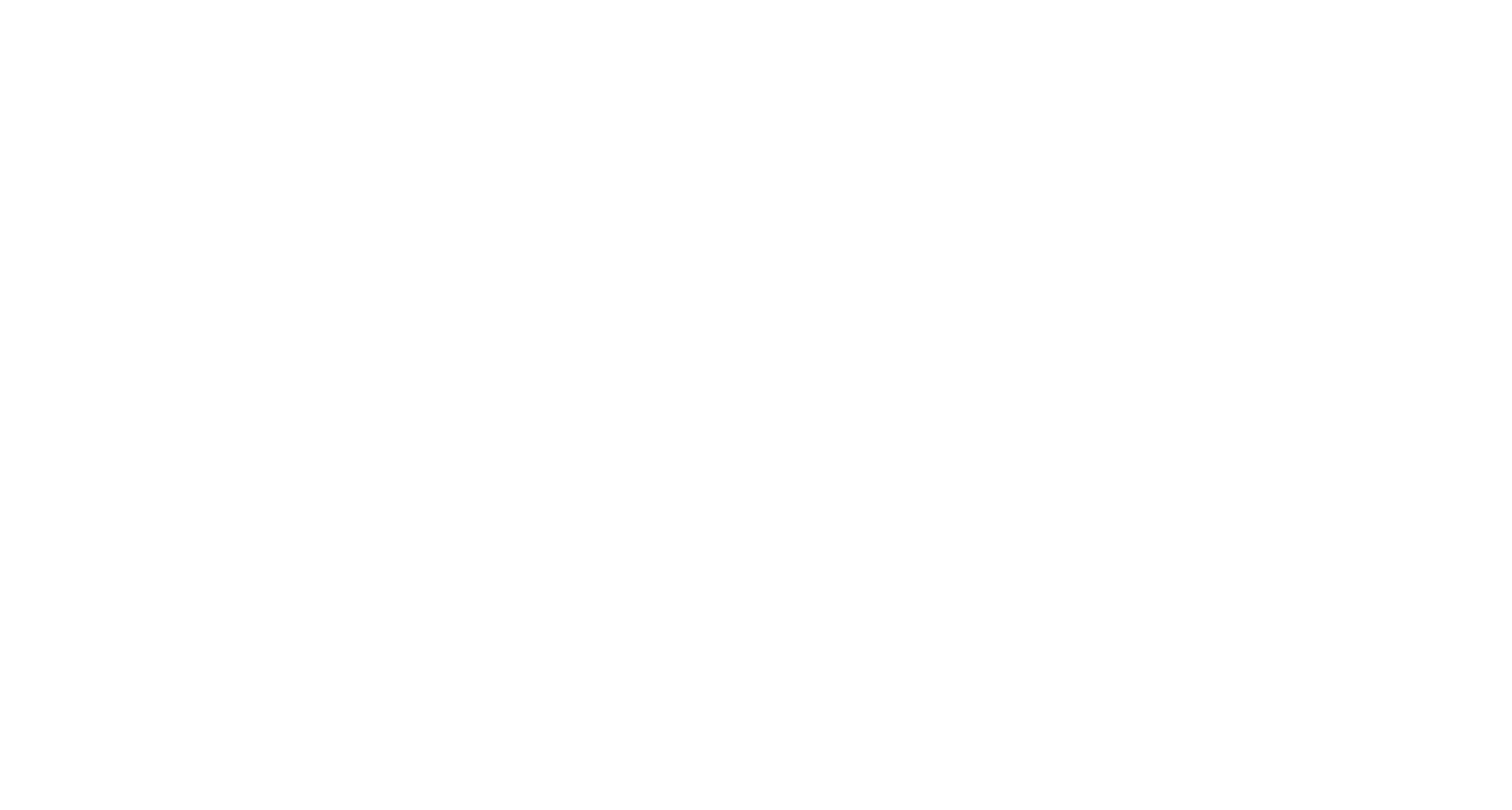
— И все Брейгели?
— Почему ты снова говоришь с «е». Говори с «о умлаут». Тебя же учили.
— И все Брöгели?
— Все.
— Зачем?
— Из-за тебя.
— Из-за меня? Что за ерунда.
— Это не ерунда. Это даже не ***. Это намного лучше. Ты же принес мне конверт с всеподжигающим веществом.
— Почему ты снова говоришь с «е». Говори с «о умлаут». Тебя же учили.
— И все Брöгели?
— Все.
— Зачем?
— Из-за тебя.
— Из-за меня? Что за ерунда.
— Это не ерунда. Это даже не ***. Это намного лучше. Ты же принес мне конверт с всеподжигающим веществом.
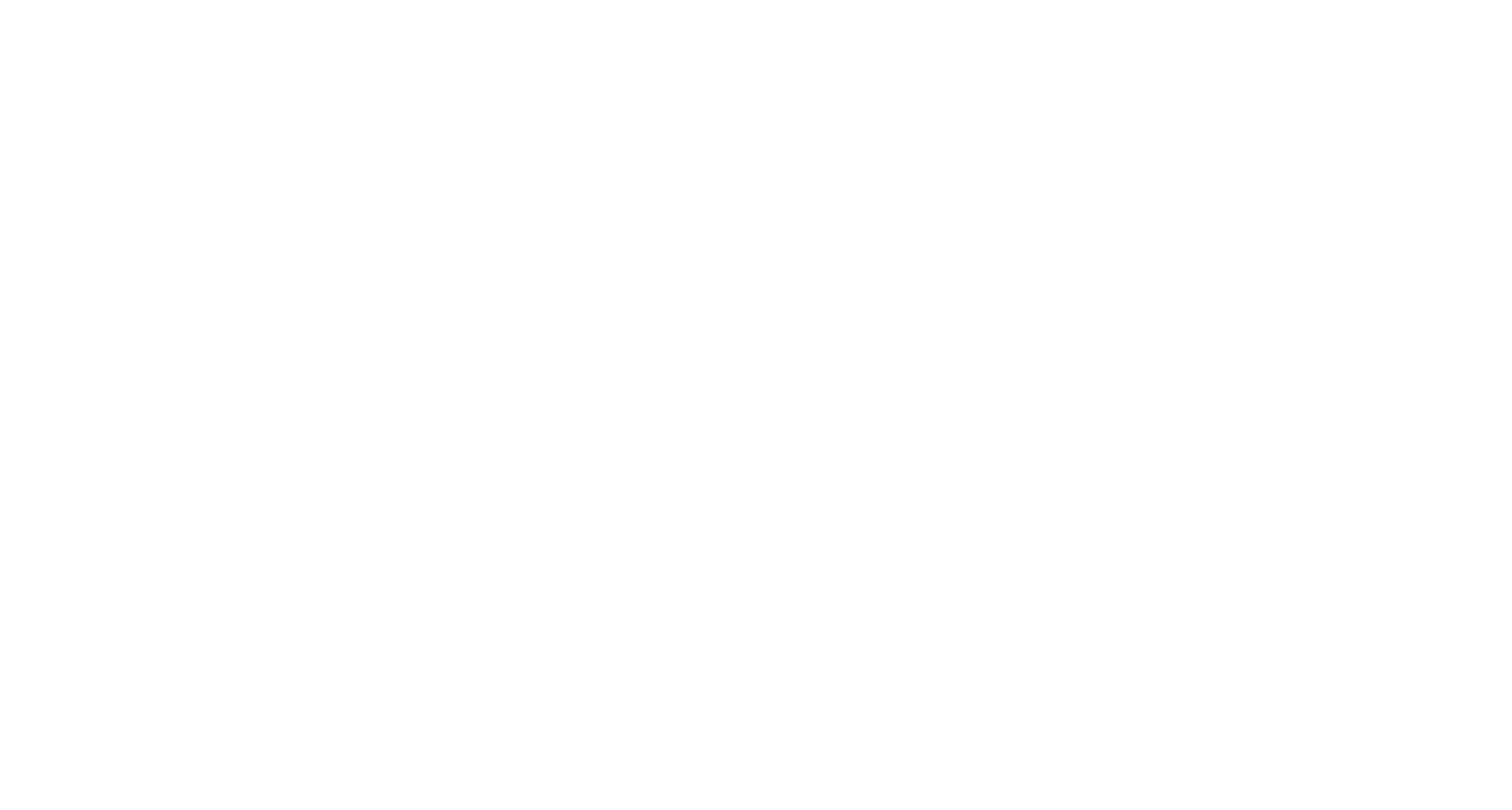
— Конверт? Там не было вещества. Мне вообще нельзя связываться с насилием, оружием и огнем.
— Это астролог сказал?
— Астролог сказал.
— Откуда ты знаешь, что там в пакетике было, старый мудак? Там изотоп-239. Доза-17. Довольно, чтобы уничтожить все эту каменную хибару. Габсбурги, ***. Турки не смогли взять Вену, а мы ее взяли.
— И что же? Я не увижу выставку? Не сниму священный запрет? Я поставил всю жизнь на эту историю.
— Никакой жизни ты не поставил. Пошляк. Тебе никуда не деться от врожденной Gemeinheit. Ее положат к тебе в могилу, чтобы ты там не скучал. У тебя давно нет жизни, и нечего было ставить. Ты хотел доказать, что еще существуешь. Вот и доказал.
— Как?
— Это я тебе доказала, прислав Первого и Второго. Мы все вместе выручили тебя. Ты не увидишь старых немецких картинок. Зато увидишь гораздо большее: крах людских иллюзий. Здесь человечество снова узнало себе цену. А то войны давно не было, вот и расслабились.
— Ценой Брöгеля?
— О, слава Богу. С умлаутом. Это самое маленькое, что можно было принести в жертву. Для того и затевалась выставка.
— Ты не вышучиваешь меня, Гретхен?
— Какие глаголы ты вспомнил, Белковский. Ты видишь, что музей уже нетушим. Нынче все агентства мира вопиют о гибели выставки. Но спасти ничего нельзя. Пойдем отсюда. Пока нас не повязали.
— Нас не повяжут?!
— Нет.
— Почему? Там же камеры, все такое.
— Они расплавились. Изотоп-239 при дозе-17 не оставляет отходов. Ты прочитал бы сводки агентств, если б у тебя сохранился смартфон.
— У меня никогда не было смартфона.
— Ну и мудак.
Мы быстро допили виски из цианистого горлА.
— Куда идти, Грета?
— В парк Пратер. В направлении ипподрома.
— А что там? Почему?
— Ты увидишь большее, чем пожар империи.
— Что может быть больше.
— Что и даже частично кто. Лаура.
— Она?
— Будет в парке на лавочке. Ждет с шампанским. Целым ящиком. А не бутылкой. У нее праздник.
— Какой?
— Она родила двенадцатого ребенка. Третьего дня. Она живет там.
— В парке?
— На ипподроме. Отец ребенка — конюх. Он следит за лошадьми какого-то чеченского шейха.
— Но Лауры не существует. Это моя фантазия.
— Нет. Она существует. Она единственная, кто знала о твоей миссии и не сдала тебя. И шампанское у ней настоящее, Philipp Plein, а не как у вас в Крыму. Идем?
— Идем.
Что мне оставалось делать.
— Это астролог сказал?
— Астролог сказал.
— Откуда ты знаешь, что там в пакетике было, старый мудак? Там изотоп-239. Доза-17. Довольно, чтобы уничтожить все эту каменную хибару. Габсбурги, ***. Турки не смогли взять Вену, а мы ее взяли.
— И что же? Я не увижу выставку? Не сниму священный запрет? Я поставил всю жизнь на эту историю.
— Никакой жизни ты не поставил. Пошляк. Тебе никуда не деться от врожденной Gemeinheit. Ее положат к тебе в могилу, чтобы ты там не скучал. У тебя давно нет жизни, и нечего было ставить. Ты хотел доказать, что еще существуешь. Вот и доказал.
— Как?
— Это я тебе доказала, прислав Первого и Второго. Мы все вместе выручили тебя. Ты не увидишь старых немецких картинок. Зато увидишь гораздо большее: крах людских иллюзий. Здесь человечество снова узнало себе цену. А то войны давно не было, вот и расслабились.
— Ценой Брöгеля?
— О, слава Богу. С умлаутом. Это самое маленькое, что можно было принести в жертву. Для того и затевалась выставка.
— Ты не вышучиваешь меня, Гретхен?
— Какие глаголы ты вспомнил, Белковский. Ты видишь, что музей уже нетушим. Нынче все агентства мира вопиют о гибели выставки. Но спасти ничего нельзя. Пойдем отсюда. Пока нас не повязали.
— Нас не повяжут?!
— Нет.
— Почему? Там же камеры, все такое.
— Они расплавились. Изотоп-239 при дозе-17 не оставляет отходов. Ты прочитал бы сводки агентств, если б у тебя сохранился смартфон.
— У меня никогда не было смартфона.
— Ну и мудак.
Мы быстро допили виски из цианистого горлА.
— Куда идти, Грета?
— В парк Пратер. В направлении ипподрома.
— А что там? Почему?
— Ты увидишь большее, чем пожар империи.
— Что может быть больше.
— Что и даже частично кто. Лаура.
— Она?
— Будет в парке на лавочке. Ждет с шампанским. Целым ящиком. А не бутылкой. У нее праздник.
— Какой?
— Она родила двенадцатого ребенка. Третьего дня. Она живет там.
— В парке?
— На ипподроме. Отец ребенка — конюх. Он следит за лошадьми какого-то чеченского шейха.
— Но Лауры не существует. Это моя фантазия.
— Нет. Она существует. Она единственная, кто знала о твоей миссии и не сдала тебя. И шампанское у ней настоящее, Philipp Plein, а не как у вас в Крыму. Идем?
— Идем.
Что мне оставалось делать.
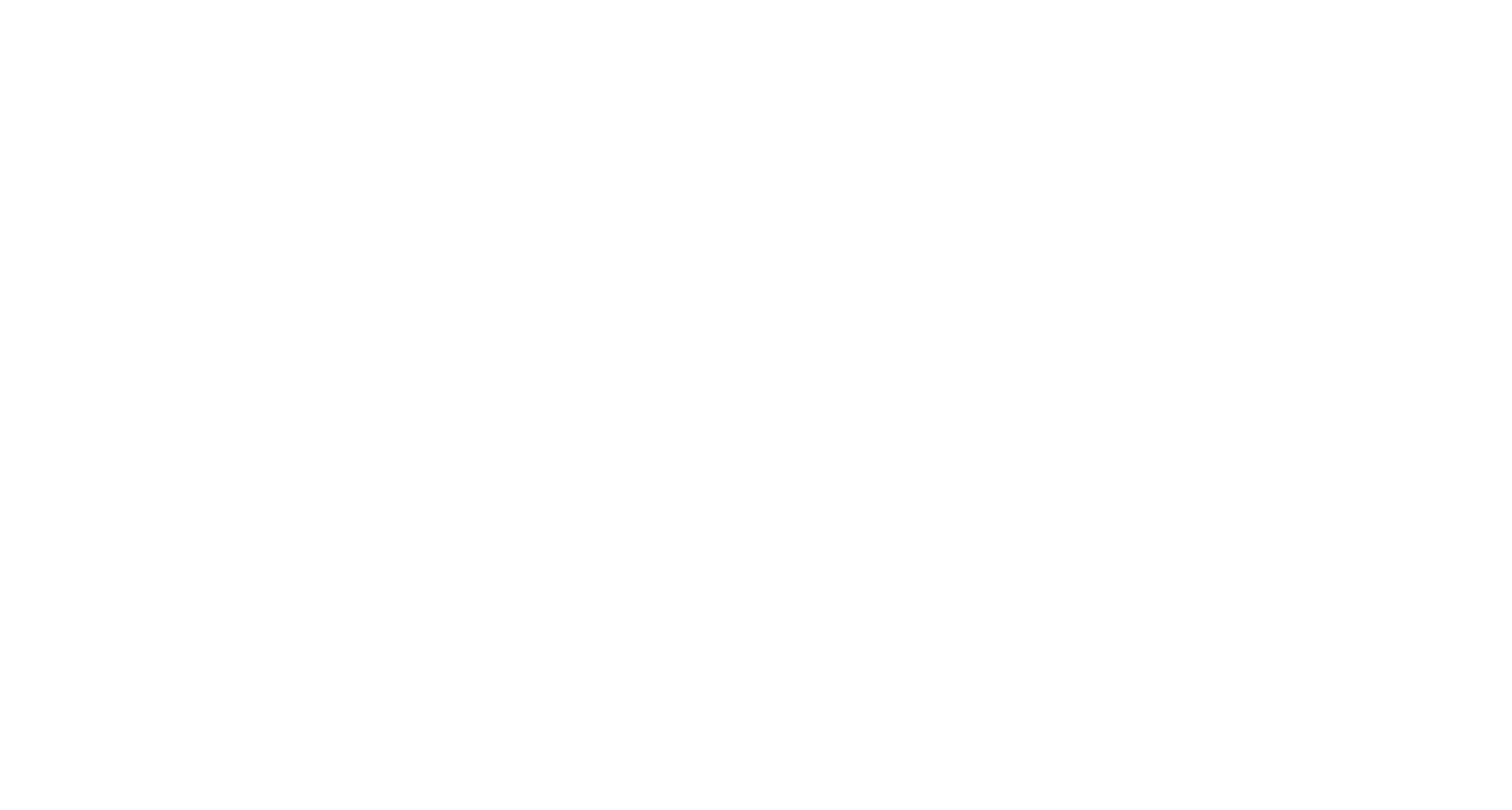

Текст: Станислав Белковский
Выпускающий редактор: Юлия Любимова
Корректор: Наталья Сафонова
Фотографии: Wikipedia, Hotel Sacher Wien
Иллюстрации: Анна Знаменская
Литеры: Мария Аносова
Дизайн и верстка: Анастасия Карагодина
Святочный рассказ «Брейгель» в начале 2019 года выйдет в издательстве АСТ
вместе с другими текстами Станислава Белковского.
Все события вымышлены. Все совпадения случайны.
© All Right Reserved.
Snob
[email protected]
Выпускающий редактор: Юлия Любимова
Корректор: Наталья Сафонова
Фотографии: Wikipedia, Hotel Sacher Wien
Иллюстрации: Анна Знаменская
Литеры: Мария Аносова
Дизайн и верстка: Анастасия Карагодина
Святочный рассказ «Брейгель» в начале 2019 года выйдет в издательстве АСТ
вместе с другими текстами Станислава Белковского.
Все события вымышлены. Все совпадения случайны.
© All Right Reserved.
Snob
[email protected]