
Дмитрий Быков: Снова в школу
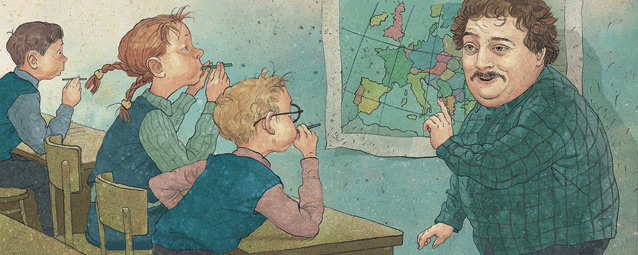
Если бы я был не я, вероятно, я бы себя ненавидел – то есть людей, активно меня не любящих, я понять могу. Это скорее любящие вызывают у меня вопросы, а то и подозрения. Но чего я вовсе не могу понять – это готовности некоторых людей прощать меня за школу.
Во-первых, не совсем понятно, что они должны мне прощать. Я перед этими далекими незнакомцами решительно ни в чем не виноват, просто нам повезло существовать одновременно. И уж вовсе неясно, почему преподавание в школе перевешивает в глазах этих людей все прочие мои недостатки вроде многописания, оппозиционности, еврейства, комплекции или симпатии к традиционному рифмованному стиху. Некоторые до сих пор думают, что можно преподавать в школе из теоретического желания сделать добро. Товарищи, клянусь вам, что это совершенно невозможно. Это так же немыслимо, как из желания вести здоровый образ жизни вдруг взять да и прыгнуть с трамплина. Преподавание в школе – единственное, что я делаю ради чистого наслаждения, вдобавок с сознанием смысла. Относительно смысла оппозиционной деятельности, скажем, у меня большие сомнения. Относительно смысла журналистики давно уже никаких сомнений нет. Но школа – это вещь полезная, и результат моей деятельности здесь виден: долго молчавший и совершенно, казалось бы, равнодушный верзила изрекает вдруг свежую и ценную мысль, забитый и презираемый сверстниками ребенок завоевывает авторитет точностью и догадливостью, девушка с ветром в голове читает Достоевского и на многое начинает смотреть иначе, а девушка с Достоевским в голове читает Аксенова и начинает смотреть на вещи проще.
Я всем бы рекомендовал школу – что знаете, то и преподавайте, – но это настолько же не для всех, как и горные лыжи, и серфинг, и любой другой экстрим. Чтобы преподавать в школе, надо, во-первых, что-нибудь знать – хотя бы в тех пределах, в которых я знаю историю русской литературы, а во-вторых, уметь об этом интересно рассказывать. Некоторые профессиональные учителя – специалист всегда подобен флюсу и страстно гордится этой флюсообразностью – регулярно предъявляют мне претензии: в Сети лежит видеозапись двух моих уроков и нескольких лекций, и они корят меня недостаточной активностью класса, отсутствием базовых методических знаний и тысячи секретных приемчиков, которые им-то уж, конечно, известны. Проблема в том, что мне они известны тоже. Всю жизнь я вынужден оправдываться за то, что умею рассказывать. При этом я умею и спросить, если надо, но опросы в Сеть не выкладываю. Это же дети, их родители не давали гостям школы права снимать учащихся и выкладывать видео куда попало.
Вот и все, что нужно: знать – и сделать так, чтобы, пока вы рассказываете, в вас не плевали жеваной бумагой. Впрочем, в одном трудном классе был у меня и такой случай. К счастью, дело было в кабинете географии. Все были вооружены трубочками. Я сказал: вот надо мной карта Европы. Кто попадет в Бельгию, ставлю пятерку немедленно. Не попал никто. Половина плохо целилась, а вторая половина не знала, где Бельгия.
Почему, собственно, я работаю в школе и какое удовольствие в этом нахожу? Во-первых, у меня так называемое артикуляционное мышление, как поименовала его в поденных записях Лидия Гинзбург: мысль приходит в процессе разговора, и какие-то важные вещи про литературу я зачастую понимаю именно в процессе разговора. Во-вторых, люди, полагающие, будто в школе может работать только мазохист или педофил, сильно недооценивают положительный эффект от общения со старшеклассниками. В период реакции никто никого обычно не любит, страна оголтело набрасывается на любого, кто хоть как-то отделяется от пейзажа. Это нормально, к этому легко привыкнуть, этот пресс давит сегодня на всех – но, братцы, какое счастье на этом фоне приходить хоть раз в неделю туда, где тебе рады! Не поручусь за МГИМО, где читаю лекции, но в школе меня радостно приветствуют пятьдесят человек, и они от меня совершенно не зависят, потому что какая власть у школьного учителя литературы? ЕГЭ они сдадут и без меня, мое отношение тут ничего не меняет; меньше четверки я ставлю крайне редко, и это уж принцип, потому что если школьник вообще не может прочитать книгу – это болезнь, а кроме чтения и обдумывания на уроке литературы ничего не требуется. В общем, наша с ними взаимная приязнь почти бескорыстна – с той лишь поправкой, что некоторые их соображения я люблю (обычно со ссылкой) употребить в статье или на лекции. Все-таки им присущ превосходный, свежий и ясный взгляд на литературу – а наш взгляд на нее замылен еще с советских времен.

Вот в этом году, скажем, я дал им традиционное сочинение – написать пятый акт «Вишневого сада». И получил такую работу:
«ЛОПАХИН (бродя по саду; кругом гастарбайтеры валят вишню): И очень просто! Надо только подойти по-деловому. Тут всегда были одни болтуны, а теперь я, хозяйственный человек. И мы сейчас все это р-раз – и под корень, и тут будут дачи и железные дороги! Не хочу себя хвалить, но надо иметь подход. И через каких-то десять, максимум двенадцать лет...
(Оглушительный треск. На него падает вишневое дерево.)
ФИРС (выбегая на крыльцо): Кто так рубит?! Эх ты... недотепа...»
По-моему, это очень точная история девяностых годов.
Я отлично сознаю, что выступаю в каком-то смысле крысоловом. Не надо мне их учить всему этому. Вот, например, нынешний одиннадцатый класс ужасно полюбил Леонида Андреева, а этого не надо. Это совсем не тот писатель, которого им следовало бы любить. Когда я читаю вслух «Жизнь человека», в классе стоит та совершенно уникальная тишина, о которой втайне мечтает любой учитель. Им действительно кажется, что это отличная пьеса, но вот вопрос: не испортит ли настроение, а то и мировоззрение современного школьника этот вопль о трагизме всякой жизни? Это проклятие всему и вся, которое там звучит? И ведь Андреев давит коленом на слезные железы зрителя и читателя, он работает грубо, топорно, как и вся молодая и не особенно утонченная русская литература. У нее молодой, неопытный читатель, он во многом варвар, с ним нужны сильные средства. И предлагая им прочесть «Черные маски», не допускаю ли я их к яду? Объясняя им блоковскую «Интеллигенцию и революцию», не намекаю ли я на желательность перемен? Читая им гриновского «Крысолова» и обрывая на самом интересном месте – дальше, мол, сами, – не внушаю ли я им подспудно, что мы все окружены крысами?
Но, с другой стороны, разве спорная литература – не самый мощный витамин? Разве они не научатся таким образом сопротивляться пессимизму, или грубому авторскому приему, или оргиастическому опьянению общественными бурями? Ведь литература, сказал однажды Айтматов – а уж он понимал, – дадена нам для того, чтобы пройти самый горький опыт теоретически, чтобы не было необходимости его проживать!
Литературные симпатии нынешнего школьника разнообразны. Он охотно читает «Твиттер», но есть литература, способная посоперничать и с «Твиттером». Из классики хорошо идет «Онегин» – феномен романа в стихах вызывает у нынешнего ребенка восторг своей неподражаемой абсурдностью: зачем? Но сделано очень ловко, и вдобавок разоблачен опасный тип, от которого всякий современный ребенок успел натерпеться: пустышка, позиционирующая себя в качестве инстанции вкуса. Нравится Тургенев, особенно поздний, мистический; нравится Базаров, в котором многие узнают себя. Отлично читается «Герой нашего времени», но Печорин, как всякий человек действия в сонные и болотные времена, вызывает почти единодушную антипатию. Отлично читается Чехов – «Дом с мезонином» с его проповедью праздности, «Черный монах» с его таинственностью – и Горький, в особенности «На дне». Правда, никак невозможно им объяснить, почему люди из ночлежки не могут выбраться оттуда благодаря честному труду. Им кто-то внушил – родители? пресса? – что, если много работать, все получится. Еще им нравится «Старуха Изергиль». На вопрос, почему история старухи помещена между легендами о вечно живом Ларре и красиво погибшем Данко, я получил в этом году изумительный ответ (разумеется, от девочки): потому что в женщине есть и вечная, как кажется, жизнь, и смерть. Ответ очень фрейдистский, но Фрейда они пока не читали.
Диалог с классом – своего рода контрастный душ, бодрящая процедура, позволяющая удерживаться в тонусе, как, впрочем, и подъемы по утрам. В школу надо подниматься рано, и это трудно, но в мои наступающие сорок пять уже необходимо. Кроме того, нашим сонным мозгам, расслабленным безвременьем, нужен интеллектуальный тренинг – а он возможен сегодня только в учительской. Самые умные разговоры происходят там, между уроками. Со словесниками, математиками и в особенности историками.
Я никого не зову в школу, да не всякого туда сейчас и возьмут. Я лишь пытаюсь сказать, что и в наше время есть занятия с очевидным практическим смыслом, и удовольствие от этих занятий всегда больше трудностей. Надо быть с молодыми, ибо их пока еще интересуют серьезные вещи – любовь, смысл жизни, будущее, – а не то, что волнует нас: бабки, здоровье, понты. Ты входишь в школу больным – а выходишь здоровым, входишь старым – выходишь молодым; и нет у тебя подлой мысли, что у страны не осталось будущего, – потому что оно рядом и даже улыбается при твоем появлении.С