
Николай Усков: Поспешай медленно
В былые времена ностальгию считали чуть ли не психическим расстройством, хотя теория о том, что золотой век уже в прошлом, а мы живем в железном, впервые встречается очень давно, а именно у Гесиода в VIII–VII веках до н. э. Cчитать свое время эпохой упадка – норма и для христианского миросозерцания Средних веков. Перед концом света наступит царство Антихриста, предзнаменования которого виделись порою в любом неурожае, падеже скота или бесчинствах местного мироеда. Более того, всякое обновление воспринималось как ухудшение, потому что нарушало привычный, освященный обычаем порядок. Дьявол – отец всякой новизны. И чем больше изменений в жизни, тем яснее: мир клонится к концу – так считали на протяжении всего Средневековья.
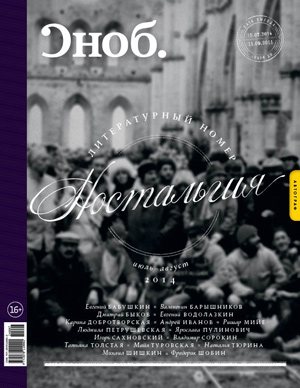
Жизненный оптимизм пришел в мировую культуру лишь с эпохой Просвещения. Первым теорию прогресса, то есть движения от худшего к лучшему, сформулировал, кажется, аббат Сен-Пьер в 1737 году. С тех пор перемены были не просто реабилитированы, но стали целью совокупного движения народов, которое понималось как восхождение от тьмы к свету. Неудивительно, что эти идеи предопределили Великую французскую революцию 1789 года, которая стала радикальным разрывом со «старым порядком» и даже ввела новое летоисчисление.
Тем не менее ностальгия никуда не делась. Вероятно, подспудно наше сознание именно так защищается от реальности, противопоставляя ей миф о благополучном прошлом. Сказка о золотом веке призвана умерить прыть века нынешнего, сдержать перемены, уравновесить их стариной, найти баланс, позволяющий перевести дыхание, свыкнуться с неизбежным. Так, за революцией всегда следует реставрация, а за просвещением – романтизм и готика со всеми их «традиционными ценностями» и религиозными поисками.
Почему мы, русские, любим ностальгировать? Думаю, все просто: за XX век наш народ пережил такие разновекторные перемены и катаклизмы, что цепляется за прошлое, чтобы не оказаться наедине с настоящим и будущим. Путинскую стабильность питает страх – не перед Путиным, а перед утратой точки опоры. Неизвестность пугает русского человека. И в этом нет ничего удивительного. «Дайте пожить!» – вопит он, стоя посреди разноцветного мегамолла, обвешанный пакетами и детьми. Как раз жить-то ему и не давали целое столетие. Иногда в буквальном смысле этого слова. Реставрация советской символики, совковых оборотов речи, теней былых вождей парадоксальным образом работает на это «дайте пожить». Возвращение в прошлое, разумеется, символическое, создает иллюзию, что все стоит на месте, не покидает зону комфорта и совершенно не собирается нестись в неизвестное будущее.

Достоевский, правда, заметил: «Человек наиболее живет в то время, когда он чего-нибудь ищет». Стремление к покою может быть целью жизни, но не ее содержанием. В нас вечно борются инстинкт самосохранения и жажда нового, энергия экспансии, которая заселила людьми все континенты, предопределила бесчисленные открытия и технологические прорывы. Ностальгия лишена авантюризма, но она необходима, чтобы дать старому спокойно умереть, превратиться в антиквариат и постмодерн. Прогресс неумолим. Сожалея об утрате старого, мы не останавливаем его, а обременяем дорогими нам смыслами и символами. Так прогресс замедляет свой ход, становится понятнее и человечнее. Festina lente, или поспешай медленно, – учили древние и многое успели.С