
От Ленина до Путина. Как ходатайствовали за политических при советской власти
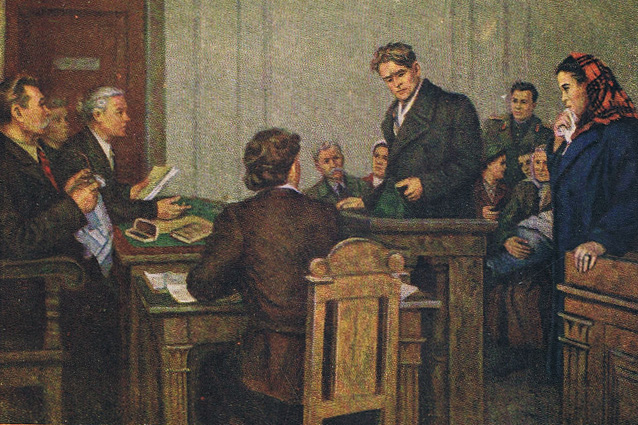
Представители высшей исполнительной власти никогда не комментируют ход следствия или судебного разбирательства по резонансным политическим делам — ни лично, ни через свои пресс-службы. При этом неизменно подчеркивается, что они следят за развитием событий. «Определенно есть общественный резонанс, и мы не закрываем глаза ни на что, мы очень внимательно все отслеживаем. Но мы не склонны и преувеличивать, скажем так, степень ажиотажа этой реакции», — сказал, например, Дмитрий Песков 6 декабря, в день вынесения приговора Егору Жукову.
Лишь в некоторых, особо значимых случаях президент может поручить кому-то из своих подчиненных взять дело «на контроль». Например, 8 июня, в день предъявления обвинения Ивану Голунову, советник президента Антон Кобяков заявил на Петербургском международном экономическом форуме: «Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и генпрокурор Юрий Чайка тщательно обеспечат надзор за происходящим и выполнят свои функции. “Посмотрим, проверим, изучим”, — сказал он, напомнив о словах президента, согласно которым “каждый должен заниматься своим делом и отвечать за него”».
Все это, впрочем, вполне сочетается с почти всеобщим убеждением, что на самом деле принципиальные решения по «политическим» делам принимает если не сам президент, то как минимум его администрация. Собственно, именно исходя из этого те, кто поддерживают фигурантов громких уголовных дел, мобилизуют общественность на подписание петиций, «шум» в СМИ и соцсетях или выход на демонстрации. Официально справедливость таких теорий, разумеется, никак не подтверждается — все доказывается скорее практикой, когда такая мобилизация помогла кого-то освободить или способствовала вынесению мягкого решения.
Впрочем, сейчас о том, что разговоры в высоких кабинетах действительно могут повлиять на судьбу обвиняемых, почему-то начали рассказывать свидетели или участники таких разговоров.
Например, 12 июня, на следующий день после снятия с Голунова обвинений и освобождения его из-под домашнего ареста, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал в эфире об усилиях, своих собственных и некоторых других публичных фигур, которые, предположительно, привели к такому результату (не отрицая, впрочем, эффекта мгновенной мобилизации журналистского сообщества и широкой общественности, петиций и массовых публичных акций). Пока сам Венедиктов и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов общались 8 июня (через день после задержания Голунова) с представителями московской мэрии и полиции и подписывали поручительства, Маргарита Симоньян, главный редактор «России сегодня», «то же самое делала на верхнем этаже, на федеральном этаже власти»: «И мы решили, что она пойдет делиться сомнениями со своими товарищами, а я буду делиться сомнениями со своими товарищами». Отвечая на высказывавшиеся тогда подозрения, что они с Муратовым «выторговали» освобождение Голунова в обмен на отказ от дальнейших акций протеста, Венедиктов говорит: «Решение об освобождении Голунова принималось не в Москве. Москва — да, московские власти поняли наши сомнения. Но решение принималось выше, и поэтому торговаться московские власти не могли по этой теме, просто зная систему».
По сведениям медиа «Проект», после освобождения Голунова Симоньян написала неким своим знакомым следующее сообщение:
«Абсолютно *** и прекрасный Алексей Алексеевич Громов. Без которого чувак сидел бы лет десять как зайка. Как же я, сука, уже хочу писать мемуары».
В том же материале «Проект» приводит и другие (анонимные) свидетельства в пользу того, что процессуальные решения по делу Голунова принимались не в полиции и не в судах, а в здании на Старой площади.
Намекала Симоньян на свою осведомленность в процессе принятия решений (явно не в суде) и в сентябре, по делу Павла Устинова, который 12 сентября был осужден судом первой инстанции к реальному лишению свободы, но 30 сентября Мосгорсуд заменил срок на условный.
Пока Маргарита Симоньян или другие участники событий не опубликуют своих мемуаров, трудно судить с какой-либо достоверностью о масштабах влияния современной российской исполнительной власти на процессуальные решения, принимаемые органами суда и следствия, а еще труднее — о влиянии, которое, в свою очередь, оказывают в этом процессе на чиновников и высших должностных лиц те или иные лидеры мнений, другие чиновники и авторитетные люди. С этим, видимо, удастся разобраться только будущим историкам.
Однако в самом институте таких внесудебных ходатайств за обвиняемых нет ничего удивительного, как и ничего нового. В России концепция независимости судебной власти существовала даже в теории, с определенными оговорками, только в период с «великих реформ» Александра II (конец 1860-х) до октябрьского переворота 1917 года и затем уже с начала 1990-х до нашего времени — то есть в общей сложности меньше 80 лет. Поэтому традиция «неформального» воздействия на реальные центры принятия решений существовала в России (и не только) всегда, а в некоторые периоды становилась по большому счету единственной надеждой на спасение.
Это можно видеть на примере первых десятилетий советской власти, по крайней мере, до эпохи Большого террора. Первый декрет о суде, принятый в ноябре 1917 года, упразднил не только существовавшую судебную систему, но и адвокатуру как институт. «Политические» (они же контрреволюционные) уголовные дела рассматривали теперь ревтрибуналы, но массовые репрессии осуществлялись прежде всего во внесудебном порядке органами ЧК. Функции защитника (или обвинителя, по желанию) — но только в судах и трибуналах — могли осуществлять «все не опороченные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими правами», а с февраля 1918 года так называемые правозаступники, процессуальные права которых были значительно ограничены.
В отсутствие нового уголовного и уголовно-процессуального законодательства суды, трибуналы, следователи и чекисты руководствовались в основном своим «революционным правосознанием». В такой ситуации различные поручительства, характеристики и ходатайства (которые иногда по старинке называли «хлопотания») часто играли ключевую роль в судьбе арестованного или обвиняемого, особенно когда за него просил заслуженный, с точки зрения новой власти, человек (в идеале старый большевик или хотя бы — до определенного момента — социалист). Дореволюционные заслуги перед советской властью самого фигуранта тоже были важны, поэтому очень часто в личных ходатайствах и показаниях самих обвиняемых можно встретить, например, рассказы о царских тюрьмах и ссылках с указанием имен и мест работы каких-нибудь заслуженных большевиков, которые могут подтвердить эти сведения.
В отсутствие каких-либо условий для формальной правовой защиты обвиняемого люди, защищающие жертв репрессивного произвола, были обычно ограничены таким «хлопотанием». Стали «хлопотать» и оставшиеся в России бывшие адвокаты, присяжные поверенные. Несколько десятков таких видных адвокатов и общественных деятелей даже создали в начале 1918 года с этой целью (среди прочих) целую организацию, Политический Красный Крест (ПКК), которую можно считать правозащитной и которая, как это ни парадоксально, просуществовала в разных формах до 1936 года.

ПКК был учрежден не на пустом месте — в определенном смысле он был продолжением «Общества помощи политическим заключенным и ссыльным», созданного в 1880-е годы и действовавшего вплоть до 1917 года. Несмотря на название, ПКК был организацией не политической, внепартийной и подчеркнуто «лояльной» советской власти: «помощь… должна оказываться каждому, кто лишен свободы по политическим мотивам — вне зависимости от того, идеи какой партии он исповедует и даже принадлежит ли вообще к какой-нибудь партии». Председателем комитета Московского общества ПКК стал широко известный до революции московский адвокат левых взглядов Николай Константинович Муравьев, председателем его совета — Вера Фигнер, а почетным председателем общества — писатель Владимир Короленко. Большую роль в организации играли еще два человека — Екатерина Пешкова (бывшая жена Горького) и Михаил Винавер, общественный деятель (не путать с петербургским адвокатом и кадетским лидером М. М. Винавером и московским правоведом и тоже адвокатом А. М. Винавером).
В ПКК было несколько комиссий — финансовая, хозяйственная, медицинская и библиотечная. Всей этой деятельностью (сбором пожертвований, закупкой питания, одежды и книг для заключенных, оказанием им медицинской помощи и т. д.) занимался и дореволюционный ПКК, но еще одна комиссия новой организации, юридическая, взяла на себя совершенно новые функции — в отсутствие профессиональной адвокатуры и состязательного независимого суда защитой прав человека и спасением людей от репрессий заниматься было больше некому. Будучи адвокатами, члены юридической комиссии ПКК пытались использовать формальные каналы. Обращавшиеся в ПКК заключенные или их родственники заполняли специальные опросные листы. Например, только за сентябрь 1921 года в комиссию поступило 313 таких листов; по 231 из них были направлены «докладные записки» в ЧК (в основном), в трибуналы, ВЦИК, НКЮ и управление принудительных работ. В этом же месяце было получено 210 ответов (в том числе на записки, поданные ранее); 46 из них содержали извещения об освобождении из-под стражи.
Но в серьезных случаях докладных записок было недостаточно. Один из архивных документов свидетельствует о том, что в 1919 году 17 членов ПКК, прося о смягчении расстрельных приговоров для группы не названных в документе осужденных, лично обошли не менее 12 советских учреждений и обратились к 46 высокопоставленным деятелям, от Ленина и Сталина до Луначарского и Красина. Результаты этой кампании остались, к сожалению, неизвестными.
В 1922-м Муравьев ушел из ПКК, который был ликвидирован как организация; новую структуру с неясным статусом и под названием «Помощь политическим заключенным» (Помполит) возглавила Е. П. Пешкова. Муравьев, как и многие его коллеги по дореволюционной присяжной адвокатуре и ПКК, вступил во вновь образованную, при его активном участии, советскую адвокатуру — стал членом Московской коллегии защитников.

Но через восемь лет стало понятно, что адвокатура — не самое безопасное место. Муравьев фактически отошел от дел, но тут арестовали его близкого друга и коллегу еще по присяжной адвокатуре (и ПКК), тоже известного адвоката Павла Николаевича Малянтовича. По-видимому, его имя фигурировало в показаниях обвиняемых по делу «Союзного бюро меньшевиков». 14 обвиняемых по этому делу были приговорены в марте 1931 года к срокам от 3 до 10 лет лишения свободы. И хотя Малянтович состоял в партии меньшевиков только около месяца, когда был назначен последним министром юстиции и верховным прокурором Временного правительства, его положение усугубляло то, что в этом качестве он успел издать приказ об аресте Ленина.
10 мая 1931 года Коллегия ОГПУ, внесудебный орган, приговорила Малянтовича — отдельно от основной группы обвиняемых — к 10 годам концлагерей. Муравьев и другие «ходатаи» задействуют все свои связи. Их усилия увенчались успехом: 20 мая та же Коллегия постановила изменить свое прежнее постановление, освободить Малянтовича из-под стражи и лишить его права проживания в двенадцати пунктах сроком на три года (такой запрет на проживание в крупных городах назывался в народе «минус»), а позднее и это наказание было отменено — в ноябре 1931 года Малянтовича даже восстановили в коллегии защитников.
Муравьев умер своей смертью в ночь на 1 января 1937 года. Малянтовича, а также его брата и двоих сыновей (все они были адвокатами) арестовали в конце 1937-го — начале 1938 года по делу об «антисоветской террористической организации в Московской коллегии защитников». Все, кроме получившего 15 лет лагерей брата, были расстреляны.
В годы Большого террора хлопотания и ходатайства не только не помогали, но и могли поставить под удар самого хлопочущего. Поэтому в делах того периода мне не приходилось встречать подобных документов — за исключением характеристик (часто положительных) с места работы, затребованных следствием.
И это, в общем, понятно. Жанр «хлопотаний», попыток неформального воздействия на исход репрессивных мер, и вообще использование морального давления (публичного или нет) на ту часть власти, которая представляется обществу реальной, расцветает при соблюдении двух условий. Во-первых, это происходит, когда формальные институты, гарантирующие справедливость, не работают — де-юре, как в ранние годы советской власти, заменившей уголовное право и процесс «революционным правосознанием», или де-факто, как по «политическим» делам в начале 1930-х или конце 2010-х, когда судьба преследуемого часто зависит от истолкования репрессивными органами высшей политической воли — по крайней мере, так это видится со стороны. Во-вторых, это происходит, когда политической власти по каким-то причинам важно сохранять по крайней мере видимость справедливости и не допускать эксцессов, вызывающих слишком большое негодование в обществе. Или, как говорит Маргарита Симоньян, «если обществу кажется, что произошла вопиющая несправедливость, таковую надо или немедленно прекратить, или доказать, что все справедливо. Так доказать, чтобы невозможно было не поверить».
Автор: Дмитрий Шабельников