Призрачны все. Ласло Краснахоркаи и его Нобель
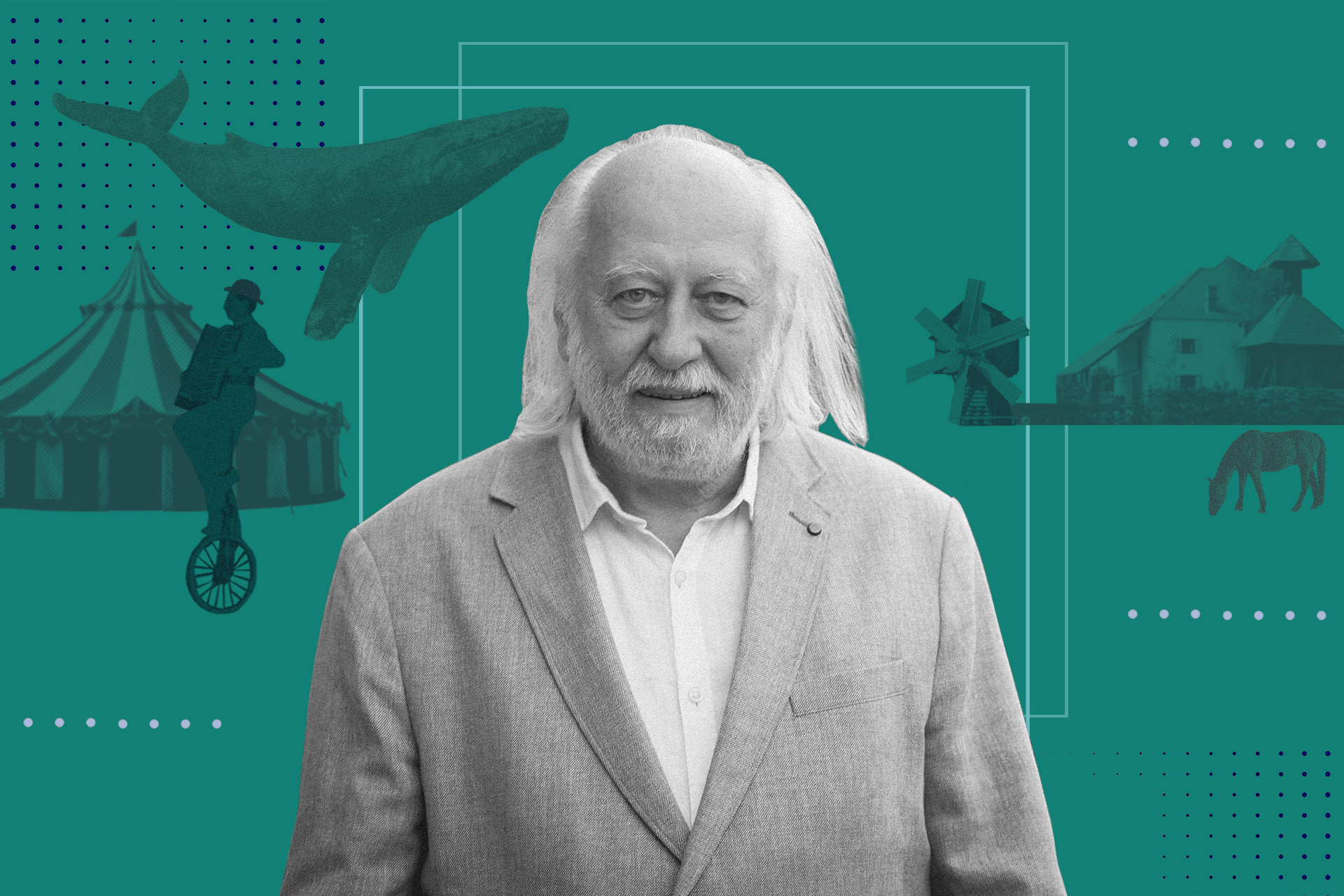
Равно как и Петер Хандке, лауреат Нобеля за уже такой далёкий 2019 год, венгр Ласло Краснахоркаи известен городу и миру в первую очередь не книгами, а их экранизациями. Трудно, в конце концов, выдумать более удачный выход из положения: сложный, неуклюжий, угрюмый писатель дружит с режиссёром-новатором, и вместе они покоряют Европу. Однажды махровый авангардист Хандке встретил массовика-затейника Вима Вендерса, после чего случилось «Небо над Берлином» (Der Himmel über Berlin, 1987), грустный шедевр о том, как ангел полюбил земную женщину и решил обломать себе крылья.
Краснахоркаи свезло не меньше — очень рано и навсегда он познакомился с Белой Тарром, главным, наверное, голосом венгерского артхауса. Примерно с 1984 года эти двое не разлей вода: Краснахоркаи отвечает за слово, Бела — за дело. Крайне удобный, скажу я вам, материал для экспорта. Реалии венгерского социализма умело эксплуатировались, примерялись на Кафку, Беккета и других приятелей по рассеянью. Гротеск ковался с душой. Да и вообще — посмотрите на фотографии Краснахоркаи любого из периодов: вылитый бродяга театра абсурда; Эстрагон, выбросивший башмаки!
Разовьётся всё это ожидаемо: дебютный и самый известный роман Краснахоркаи, «Сатанинское танго» (Sátántangó, 1985), Тарр через девять лет переплавит в семичасовое полотно босхианского размаха. Чтобы описать происходящее ясно и без дураков, воспользуюсь, не имея столько времени, семью словами: ферма, доктор, запустенье, кошка, яд, печаль, спасенье. Безупречное кино для скучающего позёра. Много камней в огород венгерской действительности, щепотка мистицизма, бесконечно долгие планы, старые достижения новой волны и, самое главное, амбиции, которыми этот фильм и можно объяснить проще всего.
Благодаря апокалиптическому готик-рок-каверу на Франца Кафку человек по фамилии Краснахоркаи стал известен примерно всем, кто интересуется высокой культурой. Стал известен и у нас, но, опять же, как таинственный автор первоисточника, который на русский язык перевели — официально — только в 2017 году. Дорога из жёлтого кирпича была вымощена, и оставалось совсем немного: разжиться знакомствами, переводами, ещё парочкой адаптаций, и, пожалуй, заручиться поддержкой — там — кого-нибудь из беспрекословно влиятельных.
Амбассадором Краснахоркаи явилась Сьюзен Зонтаг — любительница центрально- и восточно-европейской экзотики, всяческого окраинного авангарда, теоретик, культуролог, философ, писательница, критик и так далее. Культовая слава понемногу институализировалась. Случай — отчасти — похожий на историю Милана Кундеры: чешский интеллектуал научился быть европейцем и вскоре стянул на себя актуальное литературное одеяло. Краснахоркаи — один из таких: скептик по отношению к власти, хмурый чердачный фантазёр, интеллектуал, одиночка, аутсайдер, любомудр, пишущий так, будто модерн не умер, а просто сменил дистрибьютора.
Идеальная, в общем, нобелевская кандидатура.
Где-то с девяностых годов Краснахоркаи — друг мастерских, ярмарок, фестивалей, завсегдатай грантов и стипендий, уместный представитель венгерского прогрессивного искусства везде, где только можно. В 2014 году случается контекстуально важная премия Виленицы, немногим позже — Международный Букер, более известный как тихая нобелевская репетиция, и Краснахоркаи окончательно утверждается в статусе главного литературного игрока Венгрии. Финального босса, как выяснилось, ждать пришлось — по меркам вечности — не слишком долго.
Десять лет.
За это время на русский язык было переведено несколько рассказов (в основном в «Иностранной литературе»), легендарное «Сатанинское танго», чуть менее легендарная «Меланхолия сопротивления» (Az ellenállás melankóliája, 1989) и экспериментальная мультимедийная повестушка «Гомер навсегда» (Mindig Homérosznak, 2019). Вполне достаточно, чтобы сложить внятное представление о художественном методе Краснахоркаи, проследить его формальные, тематические интересы. Чем эта проза всколыхнула интеллектуальный мир Европы и отчего так легко была переведена на самый важный для писателя из языков — язык кинематографа?
Начнём с того, что своим письмом Краснахоркаи суммирует весь опыт европейской литературы последних ста лет, выкручивает на максимум её явные, безукоризненные триумфы. Кафкианская традиция сейчас уже нечто вроде общего места, и вот этой традицией — интонацией — Краснахоркаи овладел в совершенстве. Жизнь тосклива, беспощадно герметична, доискаться в ней смысла так же трудно, как дождаться урожайного сезона, а если ты в этом мире ещё и ребёнок, то будь готов к посиделкам с Чёрной Курицей и Подземными Жителями.
При этом ярлыки кафкианского стиля, паранойи, оцепенения, бессмыслицы накладываются у Краснахоркаи на реалии довольно пограничные, то есть — обнесены несколько пасторально-винтажно-колхозно-сермяжной действительностью, где из жижи никак не выудить трактор, а сельская попойка влечёт за собой цепь необъяснимых метафизических открытий. Этакий Шагал, что разлёгся в ожидании Конца Времён: может, поэтому нобелевский комитет так настаивает на «дальновидном творчестве» в «разгар апокалиптического ужаса»?
«Привстав на локте, он всмотрелся в крохотное, как мышиный лаз, оконце кухни, но за полузапотевшим стеклом посёлок, омываемый утренней синевой и замирающим колокольным звоном, был нем и недвижен; на противоположной стороне улицы, в далеко отстоящих один от другого домах, свет пробивался только из занавешенного окна доктора, да и то потому лишь, что вот уже много лет он не мог заснуть в темноте. Футаки затаил дыхание, чтобы в отливной волне колокольного звона не упустить ни единой выпавшей из потока ноты, ибо хотел разобраться в происходящем («Ты, никак, ещё спишь, Футаки…»), и потому ему важен был каждый, пусть даже самый сиротливый звук. Своей известной кошачьей походкой он бесшумно проковылял по ледяному каменному полу кухни к окну и, распахнув створки («Да неужто никто не проснулся? Неужто никто не слышит, кроме меня?»), высунулся наружу».
В книгах Краснахоркаи мало чего происходит, а то, что по ошибке можно принять за сюжет, последовательность событий, оказывается авангардным представлением о жизни, конспектом бытовухи, которая, будучи разложена чётко и по полочкам (пять минут описываю стойло, три часа гляжу на облака), остраняется и выглядит мультипликационной. В духе наших достижений эпохи Перестройки: «Что такое есть Потец расскажите нам отец».
Сам Краснахоркаи довольно быстро смекнул, что на одной гротесковой телеге далеко не уедешь, и стал последовательно расширять своё творчество — от фантасмагории как таковой, где возможно всё, — до глобальных, универсальных размышлений о жизни как путешествии (вообще, замечу, магистральная тема для нобелиатов последних лет, вспоминая, опять-таки, Петера Хандке, Ольгу Токарчук, Абдулразака Гурну), неотвратимости смерти, превратности истории, ловушке восприятия, необходимости увидеть реальность и сбежать от неё подальше.
Очень нежно эти мысли звучат в облатке заржавелых, миловидно устаревших писательских техник: Краснахоркаи настаивает на модернистской тяге и пишет обязательными монолитами, блоками стужи, в которых застывают, не смея шевельнуться, детали и намёки. Вообразить эту прозу в нервных побегушках триллера, саспенса довольно трудно, хотя Краснахоркаи довольно часто прибегает к жанровым формулам, пользуется мишурой ужаса, не выказывая его по-настоящему (страдают у него все — и звери, и люди, и колокола, и чучела, и бродячие цирки).
Реальность у Краснахоркаи опосредована и носит характер затяжной гриппозной дрёмы: из наших писателей ближе всех ему оказывается, как ни странно, Алексей Сальников, сотворивший миф на основе простого человеческого я устал. Только вот Краснахоркаи запускает в свои декорации больше воздуха, больше — отчётливого бездействия, и гротеск его сновидений оказывается уместней скорее на подмостках французского театра абсурда, нежели в «заколдованном месте» барочно-восточной, изобилующей цыганскими свадьбами прозаической стихии.
«Ко мне по-разному относятся в разных странах. Поляки, скажем, воспринимают мои тексты как литературу из прошлого, когда ещё была большая литература мессианско-метафизического характера. На мессианство я особо не претендую, но метафизика меня волнует больше, нежели все остальное. В своих книгах мне хочется представить различные мировоззрения, и не все они метафизичны. Скажем, Эстерне из «Меланхолии сопротивления» совсем далека от метафизики. Посмотрите на людей в этом баре: они непохожи друг на друга, и в жизни для них разные вещи являются главными. Как писатель я должен учесть всех. Кто-то о «ягуаре» мечтает, и встреча с Богом нужна ему лишь для воплощения этой мечты. А кому-то все равно, есть у него «форд» последней модели или нет. В романе все эти люди получают свой голос. И у меня глаз так устроен, что я всё вижу и чувствую, иначе бы я не был писателем».
В своих интервью Краснахоркаи обходителен, учтив, приземлённо эксцентричен: говорит, само собой, и о влиянии русской литературы, о том, что достоевское слово беспредельно по впечатлению, но кто знает, насколько сильно интонация богоискательства отразилась в прозе, где, кажется, есть только апокалипсис и его цветовая палитра? Единственное, думаю, внушительное отличие Краснахоркаи от образцового писателя-модерниста — в том, что ситуация катастрофы выстроена, но выхода из неё не обнаруживается, даже эскапизм на роль проводника годится постольку-поскольку (поскольку все мы, конечно, слабы).
С другой стороны, фигура Краснахоркаи основательна сама по себе ввиду её литературоцентричности, зацикленности на процессе соз(и)дания текста, некоей лучшей реальности, чем та, в которой мы оказались волей случая. Последние годы Нобелевский комитет избегает скандальных имён (Хандке скорее исключение из правила), тенденциозных поводов к награждению и обходится занятностями либо географического, либо жанрового, либо стилевого свойства. Краснахоркаи — второй нобелевский писатель из Венгрии, но первый, кажется, в контексте подлинно литературном.
Относительное сходство с Хандке, на котором я настаиваю почти всё время, что вы читаете эту заметку, подкрепляется следующим наблюдением: и там и там очень много руин, выщербленных фасадов, пустырей, колодцев с зацветшей водой, башен, чучел, свалок и пашен. Одиночество, влюблённое в себя, приросшее взглядом ко всему ржавому и бесхозному. Интонация прозы Краснахоркаи безупречно вылилась в кинематограф — потому что она в первую очередь зрима, вещественна, почти лишена того сложного, тайного вещества «невыразимого», которое должно проскальзывать между строк.
Гротеск не может без фактуры, и Краснахоркаи питается открыточным венгерским социализмом не потому, что других пейзажей нет, а потому, что именно эта среда выковала его как писателя. Благодарность чужеродному — вот то действительно авторское, самостоятельное, чем Краснахоркаи обогатил литературу и за что его Нобель выглядит по меньшей мере уместным. По этой же причине и стиль писателя, чересчур увлечённый постоянством, монотонностью, забалтыванием самого себя, ни разу не сложен, а попросту ждёт кинозала: ведь как ещё объяснить это паршивое, чудотворное, жалкое, абсолютное состояние, когда «и дольше века длится день и не кончается объятье»?

