
«Тайнопись: Набоков, Архив, Подтекст». Глава из книги Ольги Ворониной
В Издательстве Ивана Лимбаха вышла книга Ольги Ворониной, филолога и попечителя Литературного фонда Владимира Набокова. В центре «Тайнопись: Набоков. Архив. Подтекст» — опыт архивной интерпретации сочинений писателя конца 1930-х — середины 1950-х годов и набоковский дневник 1951 года. «Сноб» публикует отрывок, в котором звучит подлинный голос Веры Набоковой, обыкновенно остававшейся в тени мужа
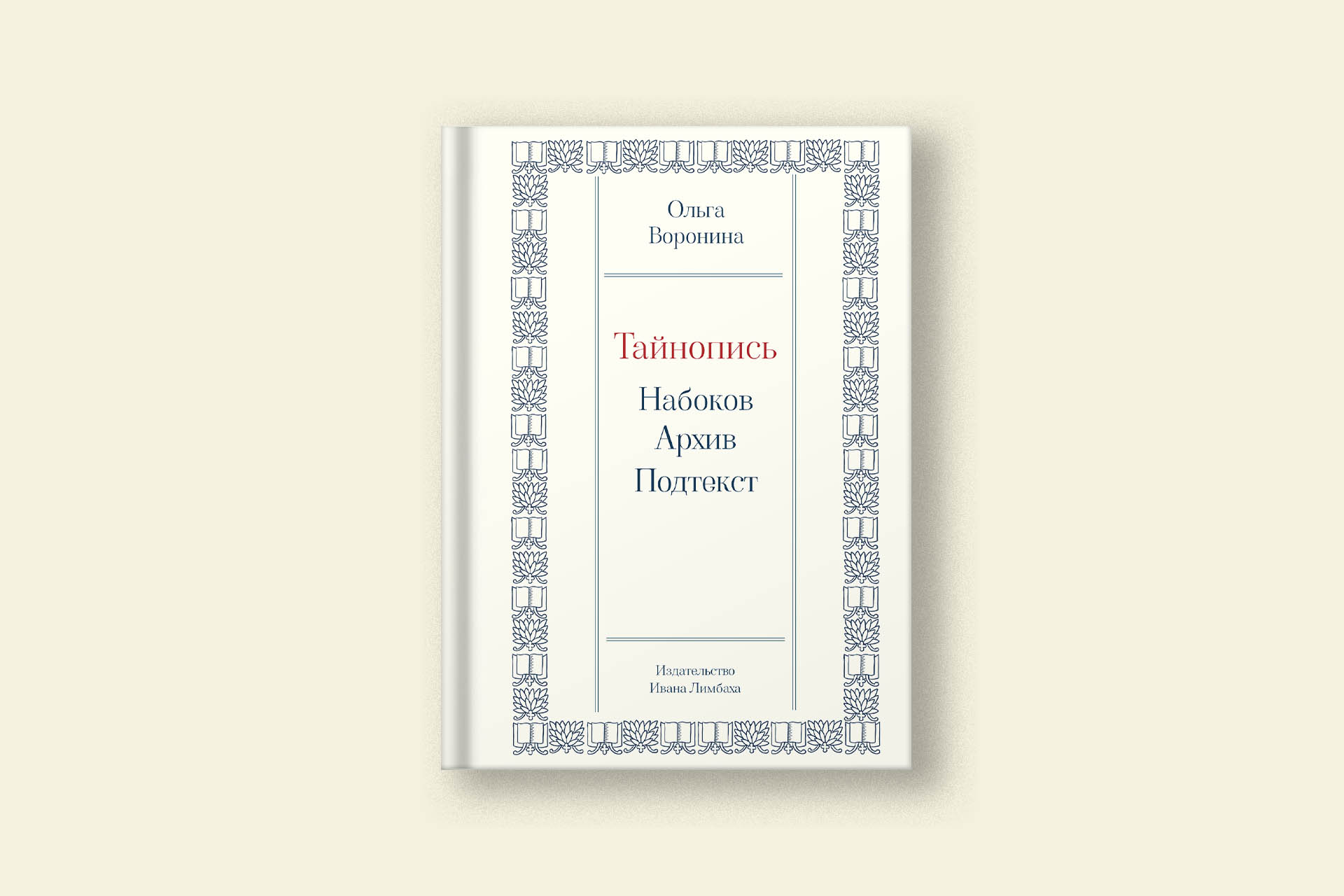
Память на два голоса
«Письма к Вере» богаты разнообразием романтических настроений. Они не просто содержат ряд приемов, которыми Набоков пользуется для описания любви в своих романах, рассказах, поэмах, стихотворениях и пьесах, но и служат жанровым прототипом последней главы «Других берегов» (1954). Благодаря апострофе «мой друг» и переходу от единственного числа к множественному («нашего мальчика», «нашего сына») последнюю главу автобиографии можно прочитать как письмо Набокова к жене — тому единственному человеку, с которым он вел переписку на протяжении всей жизни. Парадокс такого прочтения заключается в неожиданном отклике на обращение автора, скрытом в глубине главы. Если в «Письмах…» ответов Веры Евсеевны не содержится, а ее голос звучит лишь в выдуманных Набоковым репликах в скобках, то в конце автобиографии вклад жены писателя в «эпистолярный» диалог становится осязаемым и конкретным. Он основан на ее подлинном сочинении, которое продолжает и дополняет Набоков.
В коллекции Бергов Нью-Йоркской публичной библиотеки хранится эссе Веры Набоковой на английском языке «О детстве Дмитрия», датированное весной 1950 года. Оно позволяет глубже понять композицию и диалогическую структуру «Других берегов», а также изначально написанных по-английски набоковских мемуаров «Убедительное доказательство / Память, говори» (1951) и «Память, говори: пересмотренная автобиография» (1966). Неизвестно, были ли эти семь машинописных страниц созданы в ответ на просьбу мужа или по собственному желанию, но то, что Набоков включил отрывки из сочинения жены во все версии автобиографии, сомнению не подлежит. Его призыв «просмотреть древние снимочки, пещерные рисунки поездов и аэропланов, залежи игрушек в чулане», с которого начинается последняя глава, обретает особый смысл в лучах этого заимствования. Вера делает фотографически точные зарисовки ранних увлечений сына, пишет о восторге Дмитрия от машин и поездов, о его первых словечках и забавных детских рассказах, а Набоков вставляет эти обыденные (для них обоих — драгоценные) воспоминания в оправу своей узорной прозы.
Один из самых ярких примеров использования им «подстрочника» относится к заключительной части эссе: там говорится о рано проявившейся у их ребенка страсти к скорости и всем видам транспорта. В частности, упоминаются долгие часы, которые мать проводила на улице вместе с сыном в ожидании поездов:
«Эта страстная любовь к движущимся предметам — машинам, поездам, как у всех детей (мальчиков), но гораздо более сильная, это терпение ждать часами (в 2 <года>) в надежде увидеть «настоящий». Мои ступни ныли от холода, руки не немели только от того, что я держала его руку в моей правой, потом в левой (то невероятное количество тепла, которое вырабатывало его крупное младенческое тело!) <.> В два года он впервые проехал небольшое расстояние: эта тихая и восхитительная сосредоточенность на протяжении всего пути туда и обратно; в три года началось настоящее»*.
В. Е. Набокова повествует об увлечении Дмитрия динамично и ёмко: в детском облике не упущена ни одна важная черта. Предмет обожания мальчика, готовность матери потакать его прихоти, долгие стояния на холоде, тепло крошечных рук, согревающее их обоих, объединены в одну выразительную виньетку; под «настоящим» имеется в виду первый этап длительного пути к свободе — из Берлина в Прагу в 1937 году. В автобиографии Набоков сохранил все основные детали, изложенные женой, но при этом дополнил каждую из них, вплетя в повествование, где соавтору мемуариста отведена роль адресата:
«<…> мы с тобой никогда не забудем, на этом или другом поле сражения, те мосты, на которых мы проводили часы с нашим маленьким (от двух до шести лет) сыном в ожидании поезда внизу. Я видел, как дети постарше и поунылее останавливаются на миг, чтобы наклониться через перила и сплюнуть в одышливую трубу проходящего внизу паровоза, но ни ты, ни я никогда не признаем, что из двух детей нормальнее тот, кто находит практическое разрешение для бесцельной экзальтации непонятного транса. Ты ничего не сделала, чтобы сократить или наполнить рассудочным содержанием эти часовые стоянки на обдуваемых ветром мостах, когда наш ребенок с безграничным терпением и оптимизмом надеялся, что щелкнет семафор, и вырастет локомотив из точки вдали, где столько сливалось рельс между черными спинами домов. В холодные дни на нем было мерлушковое пальтецо с такой же шапочкой и варежки, и жар его веры держал его в плотном тепле, и согревал тебя тоже, ибо, чтоб не дать пальцам замерзнуть, надо было только поминутно зажимать то один, то другой кулачок в своей руке, то правой, то левой, — и мы диву давались, какое количество тепла может развить тело крупного дитяти»**.

Во-вторых, интригующая особенность автобиографического повествования — дополнительные подробности, которые связывают эпизоды из «подстрочника» в единый нарратив и дополняют ряд мотивов, относящихся к судьбоносным закономерностям из жизни Набокова. В англоязычных версиях автобиографии обычный ребенок из рассказа Веры Евсеевны противопоставлен мальчику, плюющему в трубу проходящего внизу паровоза. Он принадлежит к разряду не очень чистоплотных, жестоких или лишенных воображения детей, которые то здесь, то там появляются на страницах набоковских воспоминаний. К ним относятся дочь кучера Поленька (детское увлечение мемуариста), французская девочка, привязавшая нитку к бабочке, чтобы вывести ее на прогулку, и гипотетические маленькие мальчики, которые «только тогда и милы, когда они ненавидят мытье и обожают убийство». Их портреты оттеняют одаренность, благожелательность и воспитанность самого Набокова, когда он был ребенком, его сына, а также, в уже меньшей степени, — его братьев и кузена, сестер и возлюбленных.
Еще более весóм образ железнодорожных мостов: в рассказе Веры Евсеевны их нет, но они служат естественным продолжением важной для набоковского повествования череды мотивов. В начале цепочки — эпизод бегства В. Д. Набокова от большевиков в 1917 году: он сталкивается на мосту с бывшим командующим потерпевшей поражение Дальневосточной армии генералом Куропаткиным. За пятнадцать лет до этого генерал показывал Володе Набокову фокус со спичками, имитирующими море в бурю. Теперь его страна переживает историческую катастрофу, а он сам — личное крушение. Мост, на котором генерал просит огонька у отца автора, ложится в основу тематического узора, чуть ниже названного примером узорчатости прозы как главного назначения автобиографии. Далее все ту же цепочку инвариантов — мост, дорога, судьба, изгнание — продолжает описание моста на пути, ведущем от дома Набоковых к железнодорожной станции, где семья, друзья и слуги собираются в 1908 году, чтобы встретить хозяина усадьбы, только что освобожденного из тюрьмы. Сверкая «ослепительным блеском жестянки, оставленной удильщиком на его деревянных перилах», этот мост становится одновременно внутри- и метатекстовым узлом автобиографии. Он вновь возникает в двенадцатой главе как граница между мирами Набокова и его возлюбленной, Тамары, и связывает «Другие берега» не только с «Даром», где помещено стихотворение о ласточке, которую двое наблюдают с моста, но и с чеховской «Чайкой», где Треплев с завистью говорит о настоящем художественном творчестве как искусстве выпуклой и значимой детали («У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова»).

Редкий случая соавторства Владимира и Веры Набоковых требует сопоставления этих двух отрывков. Оно выявляет интеллектуальную и духовную близость обоих пишущих, а также замечательное сходство их слога. Заимствование в автобиографии из эссе-«подстрочника» отнюдь не прямолинейно, но уже сама его околичность подчеркивает своеобразие вклада Веры Набоковой в сочинение мужа и придает ему то звучание, к которому можно применить формулу «жизнь в творчестве».
Во-первых, сравнение текстов показывает, что Набоков превращает обыденные факты, перечисленные Верой Евсеевной, в рассказ о страсти Дмитрия, по силе сопоставимой с его собственной любовью к жене и ребенку. По мнению матери, восторг, вызываемый у сына движущимися предметами, типичен для «всех детей (мальчиков)», но он становится почти сверхчеловеческим в изложении Набокова, который утверждает, что Дмитрий был наделен «безграничн<ым> терпени<ем> и оптимизм<ом>», и удивляется «жар<у> его веры», способной держать его «в плотном тепле». Более того, для Набокова «из двух детей нормальнее» не тот ребенок, кто встречает проходящий поезд плевком, а тот, что склонен к «бесцельной экзальтации непонятного транса». Вкупе с ощущением застывшего времени и проницаемой чувством вселенной, переданным в последней главе автобиографии, транс Дмитрия, вызванный «страстн<ой> любовь<ю>» к машинам и поездам, отдаленно напоминает описанный там же его отцом «замедленный и беззвучный взрыв любви» к близким.

Набоков преобразует зарисовку жены о том, как они с Дмитрием ожидали появления желанных поездов, в рассказ о своем прошлом и судьбе семьи, который подчиняется закономерностям, постепенно проступающим в тексте автобиографии. Мимолетный эпизод становится незабываемым благодаря опыту, объединяющему обоих пишущих, а также их нежному чувству друг к другу и всепоглощающей, безоговорочной преданности сыну. В творческой мастерской Набокова быстро проходящий локомотив, причуда одаренного воображением и волей ребенка и мост объединены не по подобию своего облика или местоположения, а по той роли, которую они играют в создании повествования, движущегося из застенка повседневности и трагического плена истории за их пределы. По-чеховски выразительные подробности бытия размыкают бесконечный цикл времени, становясь той точкой фокусировки, из которой «радиусы» любви можно провести в самые отдаленные уголки вселенной. Более того, Набоков превращает эти образы и их интертекстуальные отражения в экзистенциальный принцип, наделяющий жизни автора и его спутницы смыслом борьбы против будничности, машинальности существования и нелюбви. Отсюда пафос обращения Набокова к жене: «<…> мы с тобой будем вечно держать и защищать, на этом ли или другом поле сражения, те мосты, на которых мы проводили часы с двухлетним, трехлетним, четырехлетним сыном в ожидании поезда».
Третья и, возможно, самая поразительная особенность соавторства Набоковых в автобиографии — скрытые указания на то, что Вера Евсеевна участвовала в создании нарратива набоковской памяти. Обращаясь в последней главе к ней и к ее воспоминаниям, Набоков повторяет прием, которым она сама пользуется в своем эссе, — например, напрямую взывает к памяти мужа в описании одного из оригинальных словечек, выдуманных маленьким Дмитрием:
«Краски вызывают восхищение у всех детей, но помнишь ли ты тот случай, когда ему довелось увидеть красочную неоновую вывеску в форме надписи, в которой цвета постоянно перебегали из красного в оранжевый и желтый, из желтого в зеленый и голубой? Он был заворожен и, пару дней спустя, пожелал увидеть их снова. Но мы позабыли. Увидеть что? И тогда он выступил с тем прекрасным новым словом своей собственной чеканки, элегантно составленным из довольно редкого и поэтичного названия чистого красного (алый) и окончания русского слова "bulb [цветочки]" — "алочки", "алочки, которые двигаются", "crimsonets which are moving"»?
В другом месте Вера Евсеевна восхищается сыном-рассказчиком, готовым в трехлетнем возрасте сочинять бесконечные сказки о лишь ему известном герое, «Гоу [Go]». Приведя вкратце одну из них, она ссылается и на «более фантастические истории, которые слишком долго пересказывать, но ты их <и так> знаешь». Эти обращения эхом отзываются в «Других берегах»: «Ты, помнится, спрашивала <…>»; «Знаешь, я до сих пор чувствую <…>»; «<…> как ты хорошо понимаешь <…>».
В соавторстве Набоковых примечательно не только то, что Вера Евсеевна обращается к мужу так, как он будет обращаться к ней в автобиографии, но и то, что один из эпизодов «истории» Дмитрия, пересказанных ею, по-видимому, лег в основу заключительной сцены последней главы: когда родители и ребенок, которые спешат на отбывающий в Америку «Шамплен», приближаются к причалу, взрослые скрывают от сына чудо огромного настоящего парохода, его «выраставшие из-за белья великолепные трубы [a splendid ship’s funnel]». Вот этот эпизод из эссе В. Е. Набоковой:
«Гоу пошел на прогулку по пляжу и сначала увидел дым "у горизонта", затем трубу [funnel] "у горизонта", затем корабль "у горизонта", затем корабль подошел ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе, ближе (о это нарастание наречий — я все еще слышу его) и затем Гоу сел на корабль и поехал в Америку...»
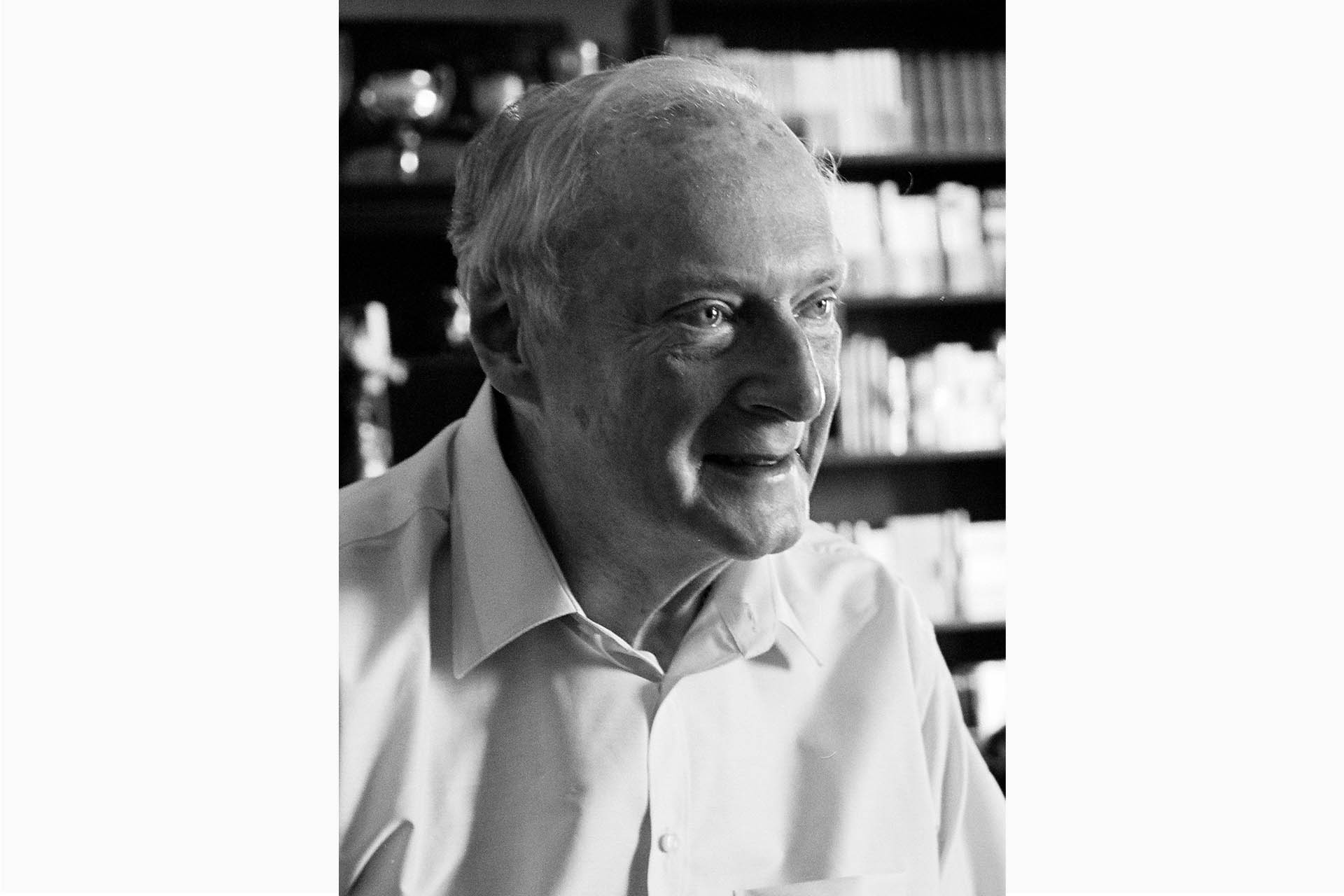
Вера Евсеевна делает главный акцент на речевой манере Дмитрия и особенно — на восторге рассказчика, который подчеркивает все нарастающую близость желанного парохода, много раз повторяя одно и то же слово. А вот Набоков обращается к своему излюбленному мнемоническому приему — показать подсмотренное невзначай чужое впечатление как нечто яркое и неизгладимое («однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда»). При этом, превращая воспоминание сына в его предвкушение, он одновременно воздает должное и той, кто запоминала все эти восхитительные мелочи вместе с ним, а возможно, и для него. Так, в автобиографии описание последнего европейского сада, сквозь который родители ведут мальчика к пароходу, включает в себя не только образ трубы «Шамплена», но и отсылку к эссе-«подстрочнику», где В. Е. Набокова подчеркнула любовь Дмитрия к краскам и запечатлела его первые опыты словотворчества, в частности, неологизм от слова «цветочек»:
«Этот последний садик остался у меня в уме как бесцветный геометрический рисунок или крестословица, которую я мог бы легко заполнить красками и словами, мог бы легко придумать цветы для него, но это значило бы небрежно нарушить чистый ритм Мнемозины, которого я смиренно слушался с самого начала этих замет».
Внедряя в свой текст образы из сочинения жены («Краски вызывают восхищение у всех детей <…>»; «<…> с тем прекрасным новым словом <…> составленным из <…> названия чистого красного (алый) и окончания русского слова “bulb [цветочки]”»), Набоков не ограничивается цитированием. В автобиографии многократно упоминается Мнемозина, которая говорит, смотрит и запоминает события прошлого вместе с автором. По-видимому, ее имя должно было войти в одно из задуманных названий автобиографии («Говори, Мнемозина!») не только потому, что разделенная память, память как искусство, небеспричинно ассоциировалась у Набокова с женой, но и потому, что «чистый ритм» музы навсегда был связан у него с речевой манерой Веры Евсеевны, что видно из адресованной ей записки от 4 июля 1969 года:
«Какая прелесть слышать твой чистый голосок в саду с моего балкона. Какие милые ноты, какой нежный ритм!»***

Хотя издатель не согласился поместить призыв «Говори, Мнемозина!» на обложку набоковской автобиографии, появление «ты» и «мы» в конце, казалось бы, преимущественно эгоцентричного жизнеописания не только подчеркивает своеобразие литературной формы последней главы, но и обосновывает первое — «американское» — заглавие книги, «Убедительное доказательство». Слияние мемуарной прозы автора и его жены приводит к тому, что их индивидуальные воспоминания, наблюдения и высказывания о природе памяти искусно сплетаются в доказательство существования как самого Набокова, так и тех, кому он обязан возможностью творить и ощущением полноты жизни. Второе, «британское», название книги, «Память, говори», тоже служит комментарием к совместному бытию Набоковых и их сотворчеству в мемуарном пространстве. Чтобы выжить, память должна звучать, иначе уникальный индивидуальный опыт останется герметично запечатанным в одном сознании, навеки замкнутом лишь само на себя. Набоков знает, что, проводя с Дмитрием долгие часы на железнодорожных мостах, Вера Евсеевна поступала так же, как и его мать, когда потакала прихотям старшего ребенка, например, покупая ему в подарок огромный карандаш Фабера, давая поиграть со своими драгоценностями или успокаивая во время кошмаров, вызванных приступами смертельно опасной болезни. Но если Елена Ивановна Набокова в математическом бреду сына «узнавала все то, что сама помнила из собственной борьбы со смертью в детстве» и своим пониманием помогала его «разрывающейся вселенной вернуться к Ньютонову классическому образцу», то действия Веры Набоковой помогли сначала повторить, а затем и преодолеть этот прототип. Опираясь на ее участие в его судьбе и его повествовании, Набоков смог разорвать оболочку индивидуального воспоминания, чтобы вывести свою любовь за пределы времени и пространства, как бы расширяя ее до бесконечности. Иными словами, в автобиографии Набокова память говорит не одним голосом, а двумя, — из признательности и уважения к жене автора.
*Набокова В. Е. О детстве Дмитрия // [Biographical and genealogical notes]. The New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscripts and typescripts. Документ включает в себя пять машинописных страниц на бумаге средней плотности стандартного формата, с карандашным автографом на пятой странице: «Vera<,> Spring 1950 [Вера<,> Весна 1950]», и одну машинописную страницу на папиросной бумаге размером в половину листа, с печатью на лицевой и оборотной сторонах, с карандашным автографом: «Vera<,> 1950 [Вера 1950]». Перевод с английского О. Ворониной. Благодарим Литературный фонд Владимира Набокова и литературное агентство Wylie Agency за разрешение процитировать этот текст.
**Здесь приводится отрывок из «Память, говори» в переводе С. Ильина, потому что он более точно передает вклад В. Е. Набоковой в автобиографическое повествование мужа. В «Других берегах» Набоков изъял из сцены, где Дмитрий ждет поезд, образ плюющегося мальчика и придал ностальгическому пассажу («<…> Но в чем бы ни состояла истина, мы с тобой никогда не забудем, на этом или другом поле сражения, те мосты <…> ») более воинственный оттенок («<…> мы с тобой будем вечно держать и защищать, на этом ли или другом поле сражения, те мосты, на которых мы проводили часы с двухлетним, трехлетним, четырехлетним сыном в ожидании поезда <…>»). Память, говори // Набоков В. Собр. соч. американского периода: в 5 т. Сост. С. Ильина, А. Кононова. Т. 5. СПб.: Симпозиум, 2002. С. 576-577; Другие берега // Набоков В. Собр. соч. русского периода: в 5 т. Сост. Н. И. Артеменко-Толстой. Т. 5. СПб.: Симпозиум, 2008. С. 329. Повсюду в публикации «Другие берега» цитируются по этому изданию.
*** В. Набоков. Письма к Вере. Коммент. О. Ворониной и Б. Бойда. Москва: Издательство АСТ: CORPUS, 2024. C. 420.
Узнать подробнее о книге можно на сайте.