
Уроки музыки
Когда отец отдавал меня в музыкальную школу им. Мурадели, то, конечно же, возлагал на эту затею неоправданно большие надежды. Сколько себя помню, учился там я из рук вон плохо, гаммы и этюды ненавидел. Особенно почему-то не давалось мне все, что связано с Бахом и русскими народными песнями. Меня до сих пор воротит от одних только слов «Во поле березка стояла, люли-люли, стояла»… Фальшь официозной русской народной песни терпеть не могу с тех самых времен.
Может быть, мне просто не повезло с педагогами? Возможно, и так. Но сама мысль, что, придя из школы, я не могу расслабиться и поиграть во дворе, как все нормальные дети, а вместо этого должен тащиться на улицу Кропоткина, нынешнюю Пречистенку, где была музыкалка, повергала меня в беспросветную тоску. И так изо дня в день в течение шести лет! Обидно, что отец, мечтавший вырастить из меня, как максимум, разносторонне развитого, гармоничного человека, а как минимум, дать музыкальное образование единственному отпрыску, по большому счету об этом и не подозревал. А я то ли стеснялся, то ли боялся ему в этом признаться. Поразительно, но я подсознательно, наверное, понимал, насколько он хочет мною гордиться, и не хотел его расстраивать.

При этом сказать, что у нас с отцом не было контакта, я не могу. Более того, мы делились весьма сокровенными фантазиями – даже волшебной страной, которая, как известно, бывает у всех детей. Моя называлась Мышерия, и жили в ней, соответственно, мыши. Белые, красивые и достаточно пушистые. Отец активно принимал участие в разработке географии, истории и даже генеалогического древа тамошних правителей, в частности короля Эллеуата Второго. Иногда отец доставал диктофон, заряжал кассеты и мог часами допытывать меня о последних событиях в Мышерии, особенно о вечном конфликте с Крысляндией. У отца была своя страна Котовасия, в которой жили такие же пушистые, как мои мыши, коты, но при этом оба государства, вопреки природе обитателей, соблюдали нейтралитет. И при всем этом я так и не смог признаться ему в своей нелюбви к страшно важному семейному проекту Музыка!
Когда родители только переехали в дом на Фрунзенской набережной, отец с мамой купили большой и невероятно красивый рояль с загадочным названием Schrder и приготовились ждать пробуждения во мне Святослава Рихтера. Их идея заключалась в том, что природа в моем конкретном случае не только не может позволить себе вполне заслуженный time out, но наоборот, просто обязана наградить меня всеми мыслимыми талантами и дарованиями. Наличие длинных музыкальных пальцев, полученных при рождении, судя по всему, было истолковано ими как некий знак свыше: ведь эти пальцы способны были взять рекордный интервал на клавиатуре.
К сожалению, мама не успела толком заняться моим музыкальным воспитанием. Когда мне было года четыре, она старалась заложить в мое подсознание основы английского языка, причем делала это с помощью пения. Интересно, что именно музыкальные увлечения в старших классах дали свои результаты. Я как-то неожиданно для всех вдруг вышел из безнадежных троечников по английскому языку в отличники. Но еще удивительнее – у меня в голове буквально отпечаталось все, что напевала мама. Когда много лет спустя я впервые услышал песню Саймона и Гарфанкела Homeward Bound, то моментально узнал ее. Вы спросите, как может ребенок запомнить текст и мелодию на чужом языке в четыре года? Как выясняется, с такими генами и наследственностью однозначно может. Шутка.
После маминой смерти у нас в доме остались не только кассеты Pink Floyd и Supertramp (желтые BASF семидесятых годов, ныне страшный фетиш среди коллекционеров винтажа), присланные за железный занавес маминой подругой из Германии графиней Фелицией фон Ноштиц, но и потрясающей красоты музыкальная система. Может быть, кто-то помнит эти восхитительно серебристые японские блочные системы, продававшиеся в высоких вертикальных тумбах, где сверху царила вертушка, ниже – магнитофон и усилитель, а нижняя часть отводилась под пластинки? Думаю, все, кто держал в руках западные журналы и каталоги семидесятых годов, помнят эти шедевры стереошика. По меркам нынешнего хай-энда это, конечно, была несерьезная аппаратура, но советский житель не мог и о такой-то мечтать. Почему полученная мамой Ленинская премия за фильм «Восхождение» была, по крайней мере частично, потрачена на покупку музыкальной системы, мне в дальнейшем так никто и не объяснил. Да и любоваться ею мне не пришлось. Затеянные родителями переезд и ремонт на новом месте подписали этому сияющему хромированному красавцу приговор: деньги на новую квартиру были нужны немалые. Судя по всему, продажа этой системы помогла родителям не только сделать ремонт в нашей четырехкомнатной квартире, но и обставить ее красным деревом и всяким антиквариатом, в числе которого был и вышеназванный рояль имени прогазпромовского экс-канцлера Германии.
Увы, мама не прожила ни дня в новой квартире, в обустройство которой она вложила столько души, сил и денег.
После автокатастрофы 2 июля 1979 года отцу, разумеется, было совсем не до меня: он с головой ушел в работу, заканчивал сначала мамин фильм «Прощание» (а это означало долгие экспедиции в Сибирь), потом монтировал документальный фильм «Лариса». Так или иначе, дома его не было. Хроническое отсутствие отца вообще характерная примета моего детства. Наверное, обсуждение этого обстоятельства могло бы составить содержание нескончаемых сеансов у какого-нибудь психоаналитика, соберись я обратиться к его услугам.
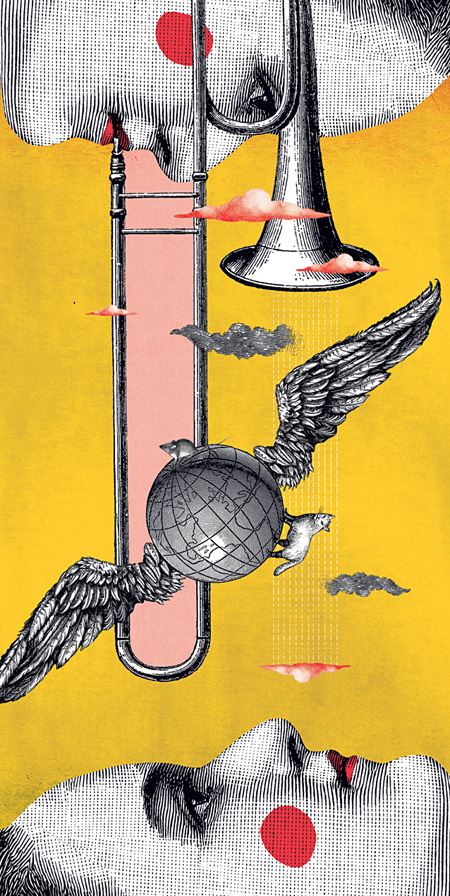
Честно говоря, я не в курсе, что гласит педагогика и психология по поводу переживаний, которые испытывают дети, долгое время не видящие дома родителей: любят ли они их меньше или больше? Но в моем случае сознание постоянного отсутствия отца и вечное чувство разлуки сопровождали меня с самого начала. Я не могу похвастаться какой-то феноменальной памятью и тем, что помню все, начиная с родильной палаты, но так же, как я запомнил мамин кавер Саймона и Гарфанкела, так же прекрасно помню и то, что отца никогда не было дома. Причем не было месяцами, а это, надо сказать, очень специфическое ощущение. Такое впечатление (если смотреть на это современным взглядом), будто папа всего лишь время от времени приходил в гости, а дома я жил с бабушкой. Бабушки бывают, как известно, разные: бывают добрые и очень добрые. Бывают повышенной вредности и повышенной сладости. Моя бабушка была повышенной хохлятскости. Sorry за неполиткорректное высказывание, но, в конце концов, речь же идет о моей бабушке! Все явно и ярко украинские черты, которыми окружающие так восхищались в моей маме, однозначно прослеживались и в облике Ефросиньи Яновны Ткач, но только в какой-то непереносимой концентрации. Причем бабушка была не просто классическая хохлушка – чуть приземленная, с невероятной жизненной силой и энергией, полная позитива и юмора, она была еще и хохлушка героической тоталитарной сталинской формации. Я с раннего детства знал, что она боролась с бендеровцами в чудном красивом городе Львове (в нем меня на всю жизнь поразил вкус и запах пирожков с яйцом и луком) и однажды получила вилами в бок от «бендеровских прихвостней», канонизированных шестьдесят лет спустя президентом Ющенко. Причем эта история подавалась в нашем доме с таким подтекстом, что жаль должно было быть не Ефросинью Яновну (как в случае с любым обычным человеком, получившим вилами в бок!), а недалеких бендеровцев. Не с той связались! Я практически вижу эту картину, как бабушка, мрачно прорычав Big mistake! в лучших традициях нынешнего губернатора Калифорнии, достает из ноги вилы и повергает опешивших злодеев в паническое бегство обратно в густые западенские леса. Круче этой истории была разве что полумифологическая история прадедушки – бабушкиного папы, который во время гражданской остановил в одиночку целый эшелон белых и заставил их сдаться, имея в наличии за спиной лишь пару пулеметчиков.
Более того, бабушка умудрялась быть еще и директором школы. То есть, как мне казалось в детстве, была почти в генеральском звании. Причем не в брежневские вегетарианские времена, а при дядюшке Джо в послевоенном Львове. То есть практически Глеб Жеглов тире маршал Жуков, только круче. Командирские способности, которых хватало на воспитание целой школы голодных послевоенных львовят, отец, бесспорно, ценил и неоднократно испытывал на себе, а потому был уверен, что уж со мной одним бабушка точно справится во время его длительных командировок. Вообще отношения у бабушки с отцом после маминой смерти были как минимум сложными и взрывными. Два человека с таким характером вообще уживаются в одном доме с трудом, и то, что они смогли более или менее мирно сосуществовать столько лет, во многом объяснялось наличием двух объединяющих факторов: общей памяти о маме и непреходящей любви к ней и необходимости воспитывать непутевое чадо.
Я хорошо помню эти два слова, сопровождавшие все мое детство: «натура» и «экспедиция». Чем они отличались, в те годы я, разумеется, не очень понимал, но знал, что это всегда надолго. Таким образом, на хозяйстве-воспитании всегда оставалась Ефросинья Яновна. И эта причудливая комбинация из украинской бабушки и немецкого рояля в углу гостиной почему-то внушала отцу абсолютную уверенность, что музыка сама на меня снизойдет.
Бабушка как настоящая красивая западнянка не могла не обладать прекрасным музыкальным голосом и идеальным слухом. Но, увы, ничем, кроме жесткого административного ресурса, помочь мне со скучными гаммами и этюдами не могла. Рояльный ужас преследовал меня в школе и дома, не давая ни минуты передышки. Если бы отец все это видел своими глазами, то, может быть, смог бы как-то разбудить во мне любовь к классической музыке, но на его долю доставалось только красивое показательное шоу свежевыученных произведений в моем исполнении, когда он приезжал домой из очередной экспедиции. Особенно меня страшил приход гостей, который неизбежно означал просьбу Антоше что-нибудь сыграть. Я не утверждаю, что это были салонные вечера, но никакие приносимые гостями подарки не могли перебить ощущение надвигающегося страха выхода к роялю. Самое жуткое, что отец дружил со многими реально выдающимися музыкантами, да и простые друзья семьи были, как назло, все как один музыкально подкованы, а потому пальцы холодели еще больше…
Слава богу, что многие папины друзья, такие как Юрий Визбор или Татьяна и Сергей Никитины, с удовольствием сами брали на себя музыкальное сопровождение вечера, и я, как правило, отделывался какой-нибудь одной пьесой. Надо сказать, что еще в семидесятые у нас дома бывали и более странные гости. Особенно яркое впечатление производил некий дядя Володя, который на кухне распивал большую бутылку прозрачной жидкости и, спустя некоторое время, начинал петь под гитару страшно хриплым голосом «хулиганские песни». Что они были хулиганскими и запрещенными, мне объяснял отец. Правда, сам он так и не удосужился объяснить мне, чем они ему так нравятся и почему он дружит с «хулиганом» дядей Володей. При этом сам дядя Володя успешно и быстро реабилитировался в моих глазах, покатав меня на своем «Мерседесе» (как я потом узнал, одном из первых в Москве). Но тайна понятия «хулиганский певец» осталась. Отец говорил, что эти песни запрещены и что дядю Володю не показывают по телевизору. Однажды я сделал нехитрое умозаключение, поразившее отца: «Если дядя Володя хулиганский певец, то ты тогда хулиганский режиссер? Тебя же тоже по телику не показывают!». Когда дядя Володя умер, мне было его очень жалко, хотя ничего, кроме песен из фильма про Айвенго, на тот момент из его обширного репертуара, спетого у нас на кухне, мне не нравилось.
Вообще, как я подозреваю, чрезмерно любопытный и болтливый ребенок был для отца постоянной головной болью. Учитывая его репутацию опального, неблагонадежного режиссера, особенно велика была опасность того, что я в школе обязательно озвучу что-нибудь из подслушанных на кухне взрослых разговоров. Особенно тяжело пришлось отцу 10 ноября 1982 года, когда по телевизору весь день крутили печально красивую музыку, а вечером диктор объявил о кончине выдающегося государственного и партийного деятеля с большими бровями.
Почему-то это умеренно печальное известие (деятель ужасно скучно бубнил речи и не приходился мне даже отдаленным родственником и т. д.) произвело на меня, девятилетнего, совершенно трагическое впечатление. В том возрасте я проявлял все задатки будущего журналиста-международника и Хрюше со Степашкой упорно предпочитал программу «Время». Разумеется, не первые скучные минут пятнадцать про вести с полей, а жутко интересные новости про войну Ирака и Ирана, преступления израильской военщины, про героическую борьбу сандинистов против контрас в Никарагуа. Особенно меня поражала разница в сводках с ирано-иракского фронта, где цифры своих и вражеских потерь каждая сторона называла прямо противоположные с разницей в десять раз в свою пользу. Поскольку СССР сохранял нейтралитет, наши СМИ исправно цитировали информагентства обеих сторон. Я только не понимал одного: почему никто не мог с такой разницей в потерях наконец уж выиграть? В один прекрасный день папе пришлось серьезно объяснить мне, что, скорее всего, врут и те и другие. Для ребенка это стало откровением, и с этого момента я перестал болеть за Ирак, который, оказывается, тоже врал!

После разочарования в Саддаме Хусейне мне оставалось болеть только за московское «Динамо» и сборную Швеции по хоккею. Эти хотя бы не врали, а всегда честно проигрывали ЦСКА и нашим. За наших и ЦСКА я не болел, потому что они всегда выигрывали, а мне было это неинтересно. Отца такая особенность моей детской психологии только радовала, он даже активно поддержал меня в моей искренней симпатии к гвардейцам кардинала и каждый раз вместе со мной надеялся, что они победят мушкетеров. Плюс отец сам болел за «Динамо» с ранней юности, и его совершенно не смущало то, что как вратарь Мышкин был очевидно слабее Третьяка. Когда постепенно игры в Мышерию отошли в прошлое, нашим главным общим времяпрепровождением стал хоккей по телевизору. Отец любил спорт по жизни, но заразить меня смог именно хоккеем. А вот попытки привить любовь, скажем, к баскетболу, которым отец в юности занимался, или гребле, по которой у него был разряд, не имели абсолютно никакого успеха. И даже легендарные спортивные достижения в легкой атлетике собственного дяди Германа, про которого вышеупомянутый чужой дядя Володя написал песенку «Но за черту я заступил», не смогли заставить меня запоем смотреть забеги и прыжки в длину. Также равнодушным меня оставляла общая у отца и дяди Германа любовь к рыбалке, которую они мне неоднократно пытались привить. Для двух бывших сталинградских мальчишек, выросших на Волге в жуткие сороковые, наверное, была непонятна моя трогательная забота о несчастной рыбке и попытки отправить обратно в водоем весь с таким трудом доставшийся улов.
Но если программа «Время» и хоккейные матчи были увлекательной частью семейных вечеров, то абсолютно индивидуальным и не известным никому, даже отцу, хобби были мои часовые бдения у стендов с наклеенными газетами (помните, такие раньше стояли по всей Москве?), где я ежедневно изучал последний анализ международной ситуации. А если кто помнит, ситуация была очень непростой. Силы реакции и реваншизма, не сумев сорвать московскую Олимпиаду с мишкой, вовсю размещали в несчастной Западной Европе ракеты «Першинг», морили голодом бастующих британских шахтеров и отправляли караваны с душманами, чтобы помешать моему старшему двоюродному брату Юре выполнять в Афганистане интернациональный долг.
Поэтому первый вопрос, который интересовал девятилетнего ребенка вечером 10 ноября 1982 года: «Не воспользуются ли силы реакции смертью товарища Брежнева?». К ужасу отца, которому десятилетиями приходилось в разговорах с чиновниками и аппаратчиками маскировать свою малосоветскую сущность, в этот вечер пришлось проводить со мной абсурдную, как передовица «Правды», политинформацию. Как потом рассказывал отец, зная мою полную безалаберность и склонность к пламенным выступлениям на школьных переменах, он реально тогда узрел угрозу быть «заложенным» собственным сыном. Даже страшно представить, что, выскажи он тогда свое подлинное отношение к почившему генсеку, на следующий день в школе мог объявиться свой Солженицын. В результате, гуляя вечером с папой мимо здания Генштаба сухопутных войск, я узнал много интересного про сплоченность советского народа перед лицом угрозы и про то, что партия обязательно достроит коммунизм и ни в коем случае не даст вернуться буржуям в цилиндрах. Надо сказать, что в исторической перспективе я не обижаюсь на отца за эту «ложь во спасение». Как известно, в начале восьмидесятых Климову впервые после запрещенной «Агонии» наконец-то стали позволять подходить к кинокамере, и любая «детская неожиданность» в моем исполнении ему уж точно была не нужна.
В общем, надо сказать, что отцу повезло в том, что мое политическое взросление удачным образом совпало с триумфом «Иди и смотри», началом перестройки и его избранием на Высокую Ответственную Должность. Я понял, что теперь в нашей жизни все будет по-другому, когда, к моему восторгу, ему стоя аплодировал весь Московский кинофестиваль, а также когда однажды утром мы с бабушкой обнаружили на столе записку: «Приказ номер один – разбудить в 9.30». Теперь стало окончательно ясно: грядут большие перемены. Они пришлись на то время, когда не только у нас на Фрунзенской, но и повсюду с утра до ночи шли яростные споры и упоминалось огромное количество запрещенных «хулиганских имен». Более того, я уже прекрасно понимал, что некоторые картины не висят на стенах, а лежат на полках… Бабушка с ее олдскульным коммунистическим воспитанием, конечно, на все имела свое мнение, но и она, мне кажется, в тот период буквально опьянела от новых надежд, ожиданий и открывшихся возможностей.
После пятого съезда Союза кинематографистов отец много разъезжал по миру. Летом 1986 года он отмечал свой очередной день рождения в качестве главы жюри кинофестиваля в Карловых Варах. Надо сказать, что практически весь фестиваль вертелся вокруг таинственного моложавого реформатора советского кино, умудрившегося достать с тех самых полок самые скандальные и запрещенные в СССР картины. Мне было тринадцать, и этот всеобщий ажиотаж льстил и будоражил мое тщеславие. День рождения отца отмечался как главное party всего фестиваля с огромным количеством гостей, прессы, кино- и телекамер. Мы сидели рядом, недовольно щурясь от постоянных фотовспышек и блицев. Но кроме именинника и гостей, приглашенных на день рождения, за столом незримо присутствовал и не видимый постороннему глазу рогатый гость, известный издревле как Враг Рода Человеческого. И когда отец встал произнести благодарственный тост, коварный Люцифер за считаные доли секунды сумел нашептать мне на ухо, что сочетание белоснежного костюма с бокалом красного вина у отца в руке – это классика, которую нельзя не отметить, убрав вовремя стул. Что было в тот вечер после грациозного приземления именинника с бокалом красного в пустоту, память до сих пор блокирует. Скорее всего, это был один из самых позорных и жутких дней моей жизни. Помню только, что в полном одиночестве я провел этот вечер в гостиничном номере, терзаемый жесточайшими угрызениями совести, страха и вины. После скандального случая в Карловых Варах позорить отца я продолжал исключительно в родных пенатах. Но там мне это удавалось блестяще.
Количество телефонных звонков буквально на следующий день после избрания отца на Высокую Должность было способно довести и бабушку, и меня до Кащенко. Спустя пару недель беспрестанных звонков, обрывавших наш телефон сутками напролет, отец, который приползал полумертвым каждый вечер из своего Союза Адских Кинематографистов, издал очередной домашний указ: «Всех, кто звонит раньше девяти часов утра, можно посылать куда подальше». Может, звучал он и помягче, хотя, зная отца, скорее всего, нет. Меня оказанное доверие очень порадовало – покажите мне подростка, который не возликовал бы, получив полномочия посылать всех на три веселые буквы по телефону! В одно прекрасное утро первый звонок раздался до неприличия рано, и неуловимо знакомый голос вежливо попросил Элема Германовича к телефону. Увы, хорошие манеры звонившего не спасли его от моей жесткой отповеди: «А вы вообще знаете, который час на дворе? Вы вообще в своем уме? Вас где воспитывали?». В трубке повисла странная тишина, а потом тот же голос, немножко заикаясь, попросил передать Элему Германовичу, что он очень извиняется за ранний звонок и просит срочно перезвонить Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Мое сердце нехорошо ухнуло и устремилось к пяткам. Перед глазами успели промелькнуть черный воронок, тяжелая рука чекиста на моем плече, «товарищ Климов, пройдемте с нами», подвалы Лубянки, архипелаг ГУЛАГ и одинокая старость в колонии-поселении где-то под Воркутой с посмертной реабилитацией во время следующей перестройки. Теперь оставалось разбудить отца приятной новостью. Я уже не помню, что смог из себя выдавить. Наверное, что-то вроде «Папа, прости меня, но, похоже, звонил Горбачев… и я его послал». При этом сам посоветовал отцу прекрасную отмазку: скажи, мол, ребенок на головку не очень и находится под неусыпным наблюдением у специалистов. К чести отца, отмазку он использовать не стал, да и сам Михаил Сергеевич оказался человеком с чувством юмора, искренне сочувствующим отцу-одиночке и понимающим все сложности переходного возраста.
А переходный возраст уже вовсю бил ключом по голове. Увы, новая работа отца отнюдь не способствовала грамотному и своевременному реагированию на разные тревожные звонки и негодующие крики. И первой жертвой, несмотря на потраченные шесть лет, стала музыкальная школа. Как известно, автора музыки к финалу «Иди и смотри» и по совместительству любимого папиного композитора Вольфганга Амадея Моцарта привязывали к стулу, чтобы он совершенствовал технику. Хотя отец частенько об этом мне напоминал, осознание того, что пианиста из меня не получится, в какой-то момент стало неизбежным.
На самом деле лучший способ заставить полюбить музыку – это избавиться от необходимости ежедневно играть этюды Черни и Гедике. Я моментально забыл все, чему меня учили шесть лет. Воистину человеческий мозг способен отфильтровать все что угодно. К сожалению, он безжалостно отфильтровал и мое знание нотной грамоты, а неизбежная возрастная ломка голоса окончательно подорвала мое умение попадать в ноты.
Я уже не помню, чья именно была идея забрать меня из музыкальной школы, но так или иначе именно она послужила толчком к начавшемуся бурному роману, а точнее, любовному треугольнику между мной, рок-н-роллом и отцом. Споры о тех или иных музыкантах и подробный разбор новых альбомов, голосов и мелодий продолжались у нас все годы, что мы прожили с ним вместе, то есть до конца его дней. К своим шестидесяти годам Элем Климов вдруг, сам того не подозревая, стал знатным рок-критиком, обладавшим знаниями и эрудицией, приводившими в изумление многих моих друзей-меломанов и даже профессиональных музыкантов.
Все усилия бабушки и генеральная линия папы, направленная на становление музыкального таланта, пошли прахом. Надо сказать, что отец не сдавался и на смену потерявшему актуальность роялю Schrder привез из очередной заграницы компьютер Commodore 64 – на тот момент едва ли не самую модную вещь во Вселенной. Почитаемый отцом как главный музыкальный гуру всех времен и народов Альфред Гарриевич Шнитке называл электронную музыку «таблеткой», но папа был искренне счастлив наблюдать, как я целыми вечерами «пропадаю» около компьютера, сочиняя песни на английском и придумывая им совершенно безграмотные аранжировки на картридже Music Machine.
Группа, созданная с одним из моих друзей, ныне известным в Европе физиком Артуром Руге, называлась Galaxy, и все ее участники выступали под псевдонимами героев «Звездных войн». Я был Люком Скайуокером, старался одеваться в черное и писал идиотские песни про комету Галлея или приземлившегося на Красной площади немецкого воздушного хулигана Матиаса Руста. История Матиаса меня потрясла до глубины души. И когда самый гуманный в мире советский суд вместо того, чтобы дать ему медаль за подвиг, приговорил романтичного немца к тюремному заключению, я прорыдал час в своей комнате от осознания вопиющей несправедливости. Чтобы прозреть у меня отсутствие всякого музыкального таланта, не надо было быть Альфредом Шнитке, но для отца главным было, ясное дело, не это. Он даже в мыслях не мог допустить, что его сын в конце концов не создаст чего-то эпохального и великого. Сам он в это время жил мечтой экранизировать книгу Булгакова о Москве, Сатане и Понтии Пилате. Она стала для него воплощением идеи, что человек в этой жизни обязан дойти до творческой вершины, какой бы недоступной и трудной она ни казалась.
Так и не снявший фильм своей мечты, отец продолжал упорно верить, что пускай я не стану серьезным музыкантом и, скорее всего, даже рок-музыкантом, но мои творческие гены обязательно должны будут как-нибудь проявиться. И поэтому, когда в один прекрасный день я заявил ему, что хочу быть журналистом и всерьез начать писать о музыке, отец ни секунды не раздумывал. «Чехов тоже начинал с журналистики», – бодро заявил он. Через полчаса я уже имел договоренность с Александром Градским об интервью и подтверждение от МК о публикации. А спустя день я уже сидел в гостях у самого Градского, судорожно соображая, какую кнопку нажать, чтобы включить диктофон. Но все, что было потом, это уже совсем другая история.
…А рояль Schrder все последующие годы так и простоял, безмолвный и давно расстроенный, в углу нашей гостиной. Настроить его не было уже никакой возможности, но продать этот символ несбывшихся надежд я решился только после смерти отца.