
Мужской разврат как ошибка эксперимента
Алексей Алексенко продолжает цикл публикаций «Зачем живые любят друг друга» — о загадках размножения и других парадоксах современной биологии. В этой главе мы узнаем о «принципе Бейтмана» и других ошибках великих генетиков
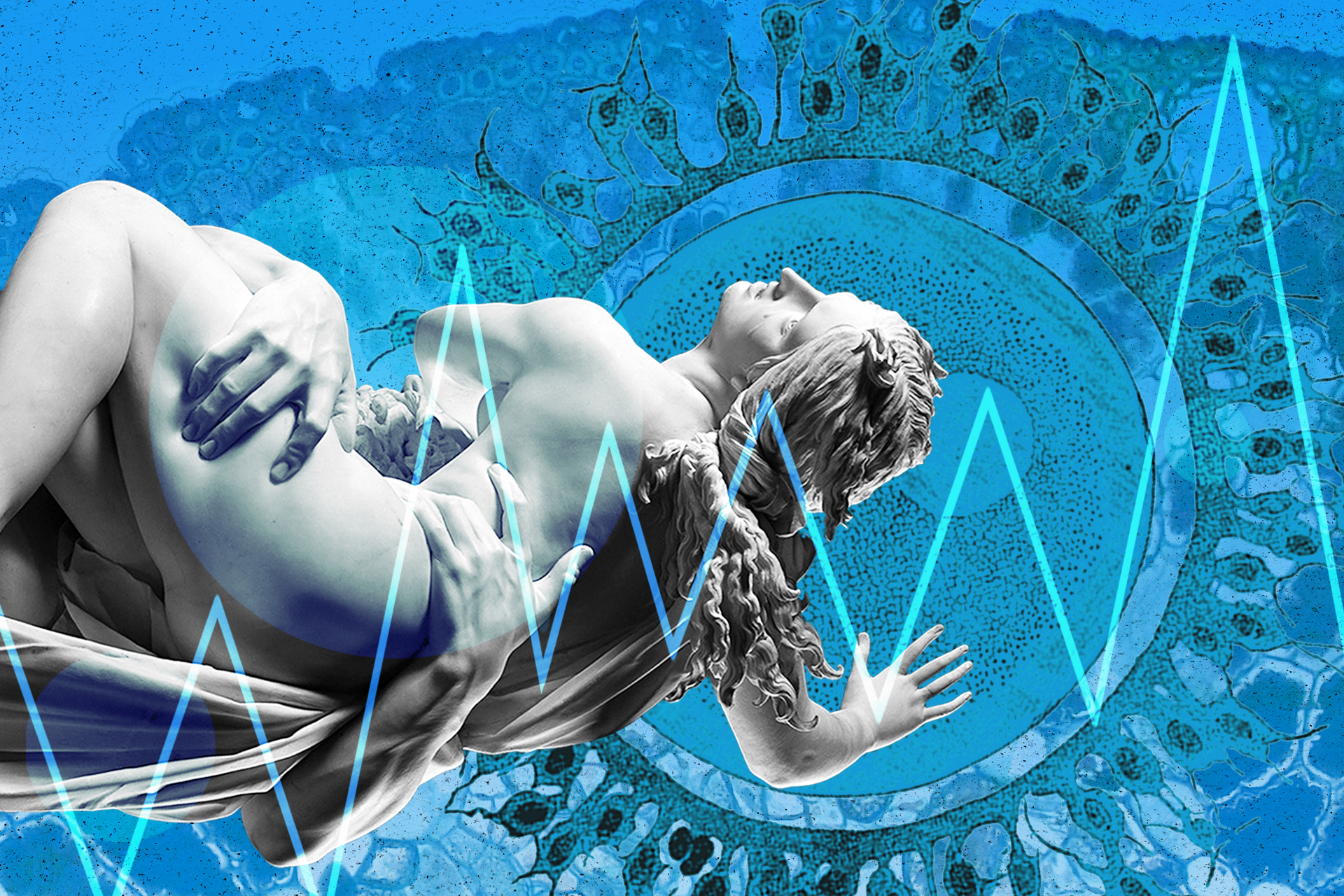
Предыдущую главу читайте здесь: Как из паразитов и тунеядцев мог возникнуть мужской пол.
Глава 13, в которой самцы оказываются не так уж плохи
Человек, как мы знаем, существо социальное, и некоторые думают, что это значит «милое» и «общительное». Однако у социальности есть неожиданное и крайне неприятное свойство: социальные существа постоянно оценивают окружающих — достаточно ли те хороши для их прекрасного социума. И ладно бы еще маниакально ставили оценки за поведение себе подобным, но ведь так непросто себя ограничивать, когда рука сама пошла. И вот уже под раздачу попадают другие живые создания, в том числе совершенно неодушевленные, вроде вируса или растения, а то и целые явления природы. Стоит только ученым открыть в мире что-то новое, и непременно найдутся охотники заявить о своем мнении, хорошо ли это или плохо с точки зрения этики. А ученые что? Ученые тоже люди и порой позволяют увести дискуссию на этот бесплодный, хотя и полный внутренней драматургии путь. Вспомним хотя бы, какой переполох вызвала в викторианской Англии привычка ос-ихневмонид откладывать в тела парализованных жертв яйца, чтобы личинка могла с наслаждением выедать изнутри еще живое насекомое. Нервные узлы и сердце личинка оставляет на закуску, чтобы подольше поддерживать в теле жертвы огонек жизни и, надо полагать, адское пламя страданий. Узнав про такое, современники Дарвина совершенно потеряли самообладание. Как безнравственна эта природа, восклицали джентльмены, хотя природа и не спрашивала их мнения.
Конечно, биология и генетика пола — такая область, где удержаться от моральных оценок особенно трудно. Когда сотни миллионов пар во всем мире проводят свои дни в тщетных попытках установить, кто из партнеров непростительно виноват перед своим спутником жизни, большой энтузиазм вызывают любые научные новости, позволяющие поставить в позицию виноватого сразу целый пол. И такое бывает: в прошлой главе мы видели, что эволюцию анизогамии (то есть двух непохожих друг на друга полов) в изначальной популяции гермафродитов, возможно, легче понять, если считать один из полов своего рода паразитом, пытающимся нечестно размножиться за счет чужих ресурсов. Надо признать, что на протяжении прошлого века генетика и биология нередко подкармливали такого рода идеи. Вот, например, принцип Бейтмана. Возможно, название читателю и незнакомо, но картина мира, этим принципом описываемая, наверняка запечатлена на подкорке. Между тем этот принцип оказался чепухой.
Ангус Бейтман (1919–1996) был английским генетиком, который в прошлом веке занимался половым отбором у плодовой мушки: брал группы особей с равным числом самцов и самок, и наблюдал, кто с кем спаривается и чье потомство преобладает в следующем поколении. Бейтман заметил, что практически все самки приносят потомство, однако значительная часть самцов такой привилегии лишена. Что не так с самцами?! В 1948 году Бейтман сформулировал свой ответ: самки тратят на размножение значительно больше энергии (то есть сил, времени, энергии, а в конечном итоге пищи и даже собственной жизни), чем самцы. Поэтому они сами становятся ценным ресурсом, за который имеет смысл конкурировать. Сперма, согласно Бейтману, ничего не стоит, и те, кто ее производят, должны просто наделать ее побольше и не пропускать случая использовать, подкатывая ко всем девушкам и ввязываясь в драки из-за них. «Почему вы тратите все время на гулянки, вместо того чтобы посвятить его семье? — Но я же мужчина, этого требует от меня биология».
Биологи, изучавшие не лабораторных мушек, а живых существ в природе, сразу заподозрили, что с принципом Бейтмана что-то не так. Расскажите богомолу, уже смирившемуся с тем, что его съедят после первого, максимум после второго-третьего секса, что биология требует от него бегать за самками, ничего им не отдавая в обмен на их любовь, кроме ужасно дешевой спермы. Расскажите об этом самцам пчел, у которых после соития гениталии отрываются и остаются в теле самки. Расскажите о дешевой сперме близкому родственнику лабораторной дрозофилы, самцу D. bifurca, о котором мы уже упоминали: чтобы вырастить свой фирменный сперматозоид вдвадцатеро длиннее тела, ему нужен почти месяц. Или вот прекрасный пример, который приводит Оливия Джадсон в своей книге «Каждой твари по паре» (впрочем, у нее все примеры прекрасные, читайте же скорее эту книгу!): палочник Necroscia sparaxes буквально месяцами сидит на спине у своей подруги, чтобы не дать ей спариться с кем-то еще, кроме него. Расскажите ему о том, что «биология требует» от мальчиков ходить налево, и он рассмеется вам в лицо зловещим смехом палочника. Если такой бывает.
Опыты Бейтмана многие пытались повторить, и они ни у кого не повторялись. Возможно, одна из причин ошибки в том, что Бейтман выбрал себе довольно неудачный объект для подобных опытов: лабораторные дрозофилы не слишком много времени уделяют сексу. Если бы он наблюдал за мухами подольше, он увидел бы, что самки очень даже склонны к промискуитету и не прочь завести романы со всеми самцами в своей банке. Более того, такой выбор имеет для них реальный смысл: чем больше у самки дрозофилы секса, тем больше она оставляет потомства.
Чтобы обеспечить ее этим самым сексом, самцам иногда приходится побегать — но опять же не будем судить их с человеческой колокольни, потому что они кладут на алтарь секса совершенно неподъемные жертвы, иногда в буквальном смысле свою жизнь. Вот австралийская сумчатая мышь: у них самцы в буквальном смысле любят своих женщин на износ. По мере прохождения брачного сезона самец теряет шерсть, страдает от инфекций и внутренних кровотечений, нередко у него начинается гангрена. Все это время он фанатично спаривается с самками, по 12–14 часов с каждой. До первого дня рождения никто из самцов, видимо, не доживает — а самки в свой срок рожают следующую смену, которой также суждено дотянуть лишь до первого брачного сезона. Так что придержите при себе свои моральные оценки: сумчатая мышь отдает всю себя любви и детям, и не ее вина, что это ничем не похоже на наш человеческий идеал нуклеарной семьи.
К концу ХХ века биологам пришлось смириться с тем, что принцип Бейтмана, на котором успели надстроить столько сексистской, феминистской и какой угодно другой чепухи, попросту неверен. Примерно в это же время начали появляться — сперва по чуть-чуть, а потом все быстрее — молекулярные данные о том, чьи на самом деле детишки сидят в том или ином гнезде или норе и просят у родителей кушать. Из этих данных стало понятнее, до какой степени склонны к беспорядочному сексу самки самых разных видов организмов. Примеров моногамности, конечно, много — и среди самок, и среди самцов, — но это всегда исключения, обычно имеющие понятные биологические резоны.
Тем не менее, хотя опыты Бейтмана оказались одной сплошной ошибкой, его рассуждения имели некие последствия. В частности, плодотворной оказалась мысль о том, что самец и самка, то есть отец и мать, вообще говоря, могут тратить на свое потомство разный объем ресурсов. Мама надрывается на двух работах, папу давно никто не видел. Или наоборот. Вполне можно предположить, что от каждого организма — я уж больше не буду повторять, что совершенно не важно, самец это или самка, — естественный отбор должен требовать экономии ресурсов: вложить поменьше в одну конкретную детку, чтобы увеличить общее число деток. А значит, любой союз самца и самки обязан содержать в себе конфликт, пусть не психологический, но на глубоком молекулярно-генетическом уровне там уж точно что-то должно быть. Об этом пойдет речь в одной из следующих частей нашего цикла, когда мы подберемся поближе к этому самому молекулярно-генетическому уровню.
Идею «родительского вклада» первым сформулировал генетик Роберт Триверс, ученик Эрнста Майра, специалист по альтруизму и автор замечательной книжки про самообман, которую даже перевели на русский язык. Что касается «родительского вклада», то Триверс просто развил принцип Бейтмана (вернее, ту его часть, которая выдержала критику): тот пол, который вносит меньший родительский вклад, должен конкурировать за доступ к полу с бо́льшим родительским вкладом. А еще из концепции Триверса следует конфликт между поколениями. Старшее поколение хочет поприжать родительский вклад — возможно, инвестировать его в следующую попытку деторождения в новой семье. Молодое поколение намерено получить все здесь и сейчас, а бабье лето (оно же кризис среднего возраста) почтенных родителей как-то оставляет его равнодушным. Хорошо, что наш рассказ не об этом, а то предостережение против моральных оценок, с которого начинается эта глава, потребовалось бы сделать куда пространнее. Не случайно специальность Роберта Триверса называется «социобиолог» — за такое можно начать травить человека, даже не разбираясь в подробностях его идей.
Но нам надо закончить историю про принцип Бейтмана. Он же такой логичный! Если у тебя маленькие половые клетки, которых ты можешь наделать миллиарды и разбрызгивать вокруг себя веером — это же так естественно, что ты бегаешь от самки к самке и в буквальном смысле все это разбрызгиваешь. Почему же оно так не устроено в природе, легко и весело, а вместо этого мы повсюду видим какие-то роковые жертвы?
Один забавный ответ может скрываться в понятии эволюционно стабильных стратегий, о которых шла речь чуть выше, а точнее, в примере, который Ричард Докинз приводит в своей книге «Эгоистичный ген». Этот кусок я бы рекомендовал прочитать даже тем, кому всю книгу читать лень. Во-первых, это самое понятное, что я читал про эволюционно стабильные стратегии, и руки даже сами тянутся что-то подобное вычислить и поделиться с читателями. Во-вторых, у Докинза тоже тянулись руки самому все посчитать, и он наделал там ошибок, которые в последующих изданиях не исправлял, а только извинялся в сносках. Такое все любят, потому что, когда знаменитый ученый попадает впросак, это как-то возвышает читателя в его собственных глазах.
Докинз исходил из модели, описанной Триверсом: пусть изначально в некой популяции самки принимают ухаживание самца, только если он делом (на практике — собственным затраченным временем) продемонстрирует свою верность. Самке это выгодно: так она гарантирует своим детям родительский вклад от отца, и ее собственные усилия не пропадут втуне. Назовем таких самок «принцессами», а самцов, удовлетворяющих их высокому стандарту, — «рыцарями». Эти ребята влюбляются сразу до гроба и ни о каком хождении налево не помышляют. Заметим, что за длительное ухаживание «принцесса» тоже платит своим временем: это родительский вклад, выплачиваемый даже теми, у кого никаких детей не получится. Однако в случае успеха затраты вернутся к ней сторицей.
Стабильны ли их стратегии? Увы. В этой компании вдруг появляется «профурсетка», которая без всякого жеманства забирает первого подвернувшегося самца. Она точно не проиграет — мы же договорились, что все самцы «рыцари». «Профурсетка» не потратила время на ухаживание, но приобрела хорошего отца своим детям: она в эволюционном выигрыше. «Профурсеток» становится все больше. Теперь открывается интересная вакансия для самцов: оказывается, чтобы завести отношения, совсем не обязательно быть рыцарем! На сцену являются «казановы», и их число растет. Заметьте, что наш Казанова — это настоящий «самец по Бейтману»: он может не тратить ничего ни на ухаживание, ни на воспитание потомства. Он просто бросает детей, оставляя их на иждивение «профурсетки», и скачет дальше по жизни.
А что делать ей? Бедняжка прячет в шкаф кружевные чулки и идет во двор своей девятиэтажки гулять с коляской, облачившись в мешковатое синее пальто, чтобы было теплее. «Профурсетки» тоже в проигрыше. Зато в мире, где там и тут шныряют «казановы», выигрышной внезапно оказывается стратегия «принцессы»: в худшем случае она со своими капризами просто не найдет никого, останется бездетной, но зато и не потеряет свой родительский вклад. А в лучшем — подцепит настоящего «рыцаря», хоть они теперь редки. А раз редки, значит, на них есть спрос, и их стратегия опять приносит дивиденды. Число «рыцарей» растет, число «принцесс» растет, и наша популяция — если угодно, социум — возвращается к первоначальному состоянию.
Докинз сперва решил, что здесь начнется колебательный процесс — число «рыцарей» и «казанов», а также «принцесс» и «профурсеток» будет меняться циклически в соответствии со своего рода социальной модой. Затем он поправился и сказал, что на самом деле установится частотное равновесие. И в этом, если верить поздним изданиям, ошибся: на самом деле самый строгий расчет действительно дает колебания общественной моды от разврата к целомудрию и обратно.
Замечание очевидное, но необходимое: а с чего бы вдруг ни с того ни с сего появились первая «профурсетка» и первый «казанова»? Ответ: с чего угодно. Если мы говорим об эволюции, это может быть мутация в одном из множества генов, определяющих поведение. Но вполне возможно, что это и не мутация, а «идея» — из тех, что возникают в голове и передаются потомкам через воспитание, а сверстникам — через культуру. Например, это могут быть какие-то волшебные стихи или песни о том, как прекрасно развратничать и как скучна семейная жизнь, которые подростки станут перепощивать в соцсетях. То есть, опять же по Докинзу, или ген, или мем.
Тут, конечно, было бы очень интересно вычислить характерное время колебаний в том и в другом случае. Мне почему-то по-дилетантски кажется, что в первом случае, при биологической передаче, постоянная времени будет довольно большой — настолько, чтобы нашим зоологам в масштабе человеческой жизни и научной карьеры не обнаруживать в природных популяциях никаких колебаний верности и распутства, а просто констатировать: «Степные полевки верны своим партнерам, так было и так будет всегда». А вот при культурной передаче — то есть, прямо скажем, как у людей — характерные периоды колебаний вполне могут оказаться соразмерными истории и особенно моде. Это бы, наверное, объяснило, почему десятилетие свободной любви сменяется десятилетием унылой карьеры, а веселые 90-е — задумчивыми двухтысячными. Однако я все же настаиваю, что такие построения абсолютно высосаны из пальца (как, собственно, и лежащие в их основе модели страдают натяжками и упрощениями). А вот как мутации определяют половое поведение у животных — этот вопрос мы непременно разберем позже на смешных примерах.
Но не сразу. Сперва надо будет понять, почему мальчиков и девочек рождается поровну и как в этом участвуют половые хромосомы. А уж после хромосом все и выяснится.
Продолжение: X, Y и сексизм в науке