
Алексей Лепорк: «Соблазненная архитектура»
Новая книга архитектурного критика, научного сотрудника Государственного Эрмитажа Алексея Лепорка — сборник увлекательных эссе о самом важном из того, что произошло в архитектуре за последние десятилетия. «Соблазненная архитектура» выходит в издательстве «Азбука-Аттикус». «Сноб» публикует отрывок о Захе Хадид
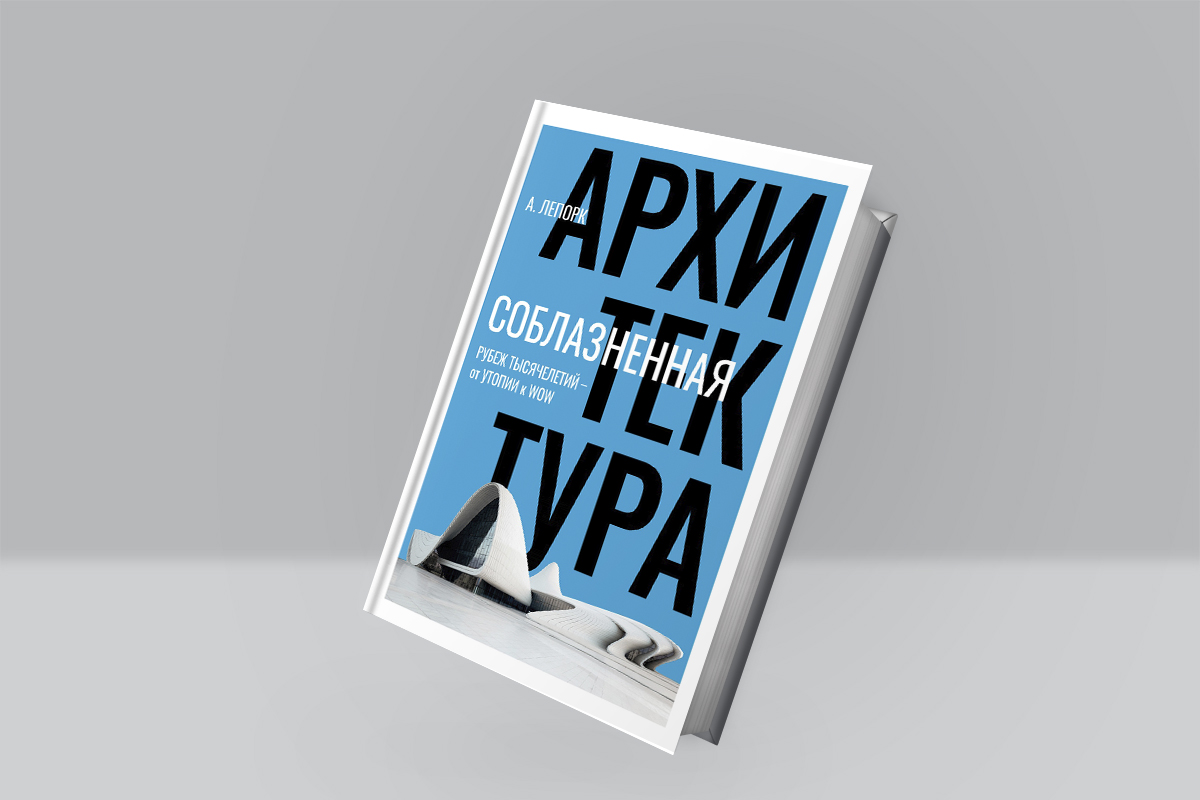
Заха Хадид, Рембрандт, и не только
Неожиданные сближения
В конце весны 2004 года Притцкеровскую премию вручили Захе Хадид в Эрмитаже. Таким образом, ее официально причислили к великим. Однако же проведение этой церемонии в России (а она каждый год проходит в разных странах) было парадоксом: никакой настоящей современной архитектуры у нас уже на тот момент лет шестьдесят как не было, нельзя сказать, что и после много появилось. Да и сочетание — Заха Хадид и Эрмитаж — на первый взгляд, конечно же,крайне экстравагантно, хотя и не лишено разных, подчас любопытных смыслов. С одной стороны, известен интерес сегодняшнего Эрмитажа к современной архитектуре. Лучший тому пример — работа учителя и во многом единомышленника Захи Рэма Колхаса над проектом реконструкции Главного штаба, он сделал и проект библиотеки Эрмитажа в Старой Деревне, у которого все еще есть шанс стать реальностью. За истекшие годы в Эрмитаже прошли выставки ряда архитекторов, включая Заху, Калатраву, финнов, голландцев. Спору нет, самым сильным ходом было бы позвать Заху придумать специальный павильон женского искусства в Эрмитаже и соорудить его во дворе Зимнего, ведь столько художниц XVIII — первой половины XIX нет больше нигде. Но это грезы из прошлого. Казалось (если продолжать о мечтах), что, может, кто-нибудь решится воздвигнуть специальный музей русского авангарда, и тогда лучшей кандидатуры не сыскать. Известно, до какой степени значимыми были русские работы 20-х для поколения Захи. Именно они послужили толчком к решительному обновлению архитектурного языка и, более того, самого видения архитектуры в 70-х годах XX века.
Но Заха и конструктивизм, супрематизм, русские поиски 20-х — привычное сочетание. Другие же параллели возникают довольно неожиданно: размышляя над творчеством Захи и пытаясь его понять, можно найти парадоксальные соприкосновения с работами как старых мастеров, так и классиков искусства XX века. Эти сближения могут родиться даже при взгляде на некоторые эрмитажные шедевры. До какой-то степени подобные сопоставления помогают приблизиться к пониманию искусства Захи Хадид. А ведь не секрет, что для очень и очень многих оно остается крайне радикальным, в его реальность многие долго не верили, ждали завершения первых громадных строек Захи — научного центра в Вольфсбурге, завода BMW в Лейпциге и Национального центра современного искусства в Риме. Ведь неслучайно, что Заха строила поначалу немного, лишь в последние годы на нее посыпался поток заказов. Тогда же, в90-х— ранних 2000-х, известность Захи зиждилась именно на ее проектах, на ее архитектурной графике, которая долгие годы воспринималась как чистая фантазия, утопия без малейшего шанса на реализацию. Как раз эти проекты, картины-видения, расширяя поле архитектурной мечты, сделали Заху иконой современной архитектуры. А для некоторых так и остались важнее мегастроек.
Едва ли не самая примечательная черта деконструкции — вопросы к поведению формы в пространстве. Форма должна потерять привычные характеристики, и прежде всего устойчивость и стабильный баланс. Силы, противодействующие гравитации, должны выйти на авансцену и начать свою игру. Именно разворачивающаяся на наших глазах игра тектонических и атектонических сил — самая суть деконструкции. Это попытка вернуть человека к человеку, с его физическими качествами и ощущениями, с его детской верой во всемогущество судьбы, сего страстью к игре. Для Захи — это проблематизация массы как таковой, задавание вопросов к земле, и форме, и массе, и движению, ко всем основным физическим характеристикам. Именно в этот момент и рождается переход к новой форме, новым переживаниям. Актуальность тех поисков и в попытке преодолеть тотальную виртуальность человеческого окружения, вернуть настойчивое притяжение реального. Но вся эта внешняя взорванность — не хаос, но рассчитанный и контролируемый процесс.
Эти черты захватывают воображение начиная уже с первых работ Захи Хадид, сее диплома — «Тектоника Малевича» (1976–1977), проектов 80-х, к примеру головокружительного вихря для Трафальгарской площади (1985). Создавая в80-х годах картины-видения, Заха, не имевшая возможности реализовать свои ранние проекты, подчеркивала и усугубляла фантастический аспект своих произведений, многое было фантазией ради фантазии. Но и это давало толчок и служило вдохновением для очень многих не только архитекторов, но любителей архитектуры. Это было сильнейшим преодолением безликости банального строительства так называемого International Style — функции, доведенной до степени культа и убившей человеческое измерение. Форма Захи представала балансирующей в воздухе, прорезающей земную поверхность, вгрызающейся вглубь земли, вырывающейся наружу. Она была и остается свободной, но предельно неустойчивой, вибрирующей. Относительно своего первого проекта, победившего на конкурсе, Peak (1982–1983), Заха произнесла фразу, ставшую не только ее кредо: «Когда я работала над Peak для Гонконга, я почти поверила в такую вещь, как нулевая гравитация. Теперь я могу верить, что здания могут парить. Я знаю, что не летают, но почти верю в это». Таким парением казался проект для Берлина «Kurfürstendamm 70» (1986) — узкий пласт, парусом поднятый над землей. Жаль, что тогда техника отстала от полета Захи и он остался нереализованным. Вся архитектура Захи — вызов традиционной устойчивости, укорененности, прочности стояния на земле. А ведь масса, реальность объема и тяжесть стояния на поверхности, на убедительнейше смоделированной сценической площадке были одними из главных целей европейского искусства начиная с эпохи Возрождения, это составляло самую сердцевину ренессансного пафоса. Обретенная и воспроизведенная реальная масса в сценической коробке. Стабильное спокойствие, порядок. Идеальная организация (культ Рафаэля). Динамику во все это вносит эпоха барокко, но и там движение очень часто разворачивается по вполне ясно читаемым правилам, однако же не всегда.
И здесь возникает первая параллель — Рембрандт, поздний Рембрандт, «Падение Амана» (около 1665 года)— контролируемый дисбаланс. Эта картина — одна из наиболее любопытных по своему построению в эрмитажной коллекции. В ней, как известно, много странностей. Не вполне ясно, кто автор — Рембрандт (вряд ли, слишком много и простой живописи— руки, плащ, и чрезмерно, подчеркнуто эффектной — тюрбан) или кто-то из мастерской (но кто — слишком умное построение, точность управления светом и местами блистательные живописные куски). Не ясен сюжет— «Падение Амана» или «Давид и Урия». Но в любом случае все это не было бы столь важно, если бы не тончайше рассчитанная пространственная структура картины. На переднем плане обрезанная чуть ниже пояса фигура главного героя, нависающая над кромкой картины и склоняющаяся в сторону зрителя. Самые тяжелые (и светлые!) массы — тюрбан и складки одеяния на животе, они буквально раскачивают баланс картины, она колеблется и едва ли не перегибается к нам. Вдобавок фигура наклонена влево — первая диагональ. Две другие фигуры на заднем плане на разной высоте. Они также наклонены, но их оси сознательно не параллельны, хотя и близки друг другу, они, естественно, не совпадают с осью главной фигуры, противопоставлены ей. Эти вертикальные оси словно вибрируют в поле картины, внося тотальную неустойчивость. К тому же фигуры второго плана явно находятся на разном расстоянии от главного персонажа. Но расстояние это не промеряется с точностью, оно воображаемо. Над фигурами громадная зияющая темнота. Это только наиболее бросающиеся в глаза черты (их на самом деле значительно больше, одно построение живописной ткани чего стоит), но и этого хватает, чтобы создать дрожащее настроение этой картины. Это — гениальный пример перехода нестабильной геометрии, а точнее, стереометрии воображаемого картинного пространства в настроение создаваемой сцены. При любом толковании сюжета бесспорны его мрачность, обреченность, катастрофа человеческого разуверения в истинности дружбы. Но внимательность к самой структуре рембрандтовской картины — возможный шаг к приближению к Захе. Нестабильная, неустойчивая, но колышущаяся масса.
Классический пример из нереализованных проектов Захи Хадид— ее опера для Кардиффа (1994–1996). Важно, что и внутри театра Заха стремилась к тотальной пронизанности формы движением, что в театральном зале практически невозможно. Но какова цель — закружить зрителя самим пространством, захватить его сразу! Пожарная станция в Вайле-на-Рейне (1990–1994) замечательна своей филигранно элегантной остротой, в памяти остаются нависающие вертикали, безупречные наклоны плоскостей и граней. В результате масса стала исполненной внутренней энергией, едва ли непсихологизированной формой. Возникает персонализация рассчитанной до точки архитектурной массы как таковой.
Пожарная станция— высшее выражение заостренной до последнего предела формы, но постепенно со второй половины 90-х происходит переход к несколько другому переживанию объема, к некоему кристаллическому прорастанию, выходу на поверхность пластов земли (садовый павильон для Вайля-на-Рейне, проекты для Рима и Вольфсбурга). Рождается светящееся растворение кристаллических объемов (проект Музея Гуггенхайма для Токио, градостроительная штудия для Сингапура, проект вокзала во Флоренции и другие). Вообразить проекты Захи реальностью и даже просто представить их стереометрически становится еще сложнее. Непонятны пространственные сочленения и переходы. Можно только поражаться смелости ее тогдашних заказчиков.
И здесь появляется еще одна параллель — эволюция Пикассо в пределах одного 1908 года, ее можно увидеть и на примере эрмитажных полотен. Переход от жесткой, подчеркнуто грубо и блочно высеченной, почти цементно залитой формы («Дриада», зима 1908 года) к растворяющимся массам («Три женщины», конец того же 1908 года). От агрессии брутальной, вываливающейся из картины массы к форме, на глазах трансформирующейся и ускользающей, где все состоит из тональных градаций. Пикассо эволюционирует так, как совершенно старый мастер, работающий над фигуративной пластикой, становясь, впрочем, еще радикальнее и растворяя форму. Даже сегодня зритель находится в сложном взаимодействии, глядя на «Трех женщин», но все же привыкает.
Привыкнем и к Захе. Важно, однако, и то, что реализованные работы Захи всегда яснее ее проектов, что естественно, но все равно удивляет. Ее первая крупная законченная в 2003 году большая стройка — Центр современного искусства в Цинциннати— поражает своей идеальной выверенностью и классичностью (в супрематическом смысле) языка. Все блоки зависают, но все на месте. И это действительно путь подлинного формообразования — к эффекту законченности, безупречной просчитанности, даже в пределах внешней случайности. Именно таково отличие композиций Малевича от его учеников и последователей— оно не в том, кто изобрел первым, а в качестве формы. Хотя и в начале пути в неизведанное тоже.
Но таков путь любого большого искусства, и музея — его производного. Главное — решиться на вызов традиционной реальности и привычному способу видения. А как справедливо замечает Заха Хадид, «без элемента неуверенности и путешествия по неизвестной территории нет прогресса». Последняя большая, завершенная в год ее ухода работа — портовое здание в Антверпене — лучшее свидетельство постоянства ее устремлений. Колоссальную пластину держит бетонная рука, все становится зримым воплощением устойчивого, но намеренно опасного дисбаланса, словно бы демонстрацией тонко рассчитанного и надежно подвешенного в воздухе объема. Все тот же Аман — или Давид.
2004–2020