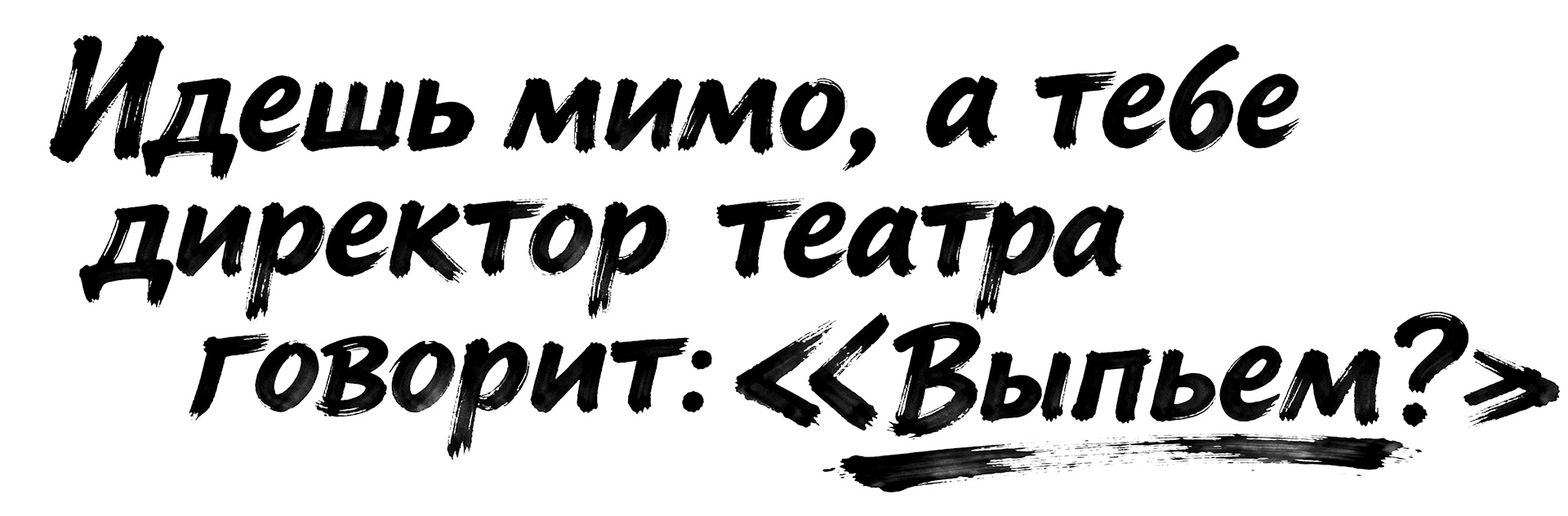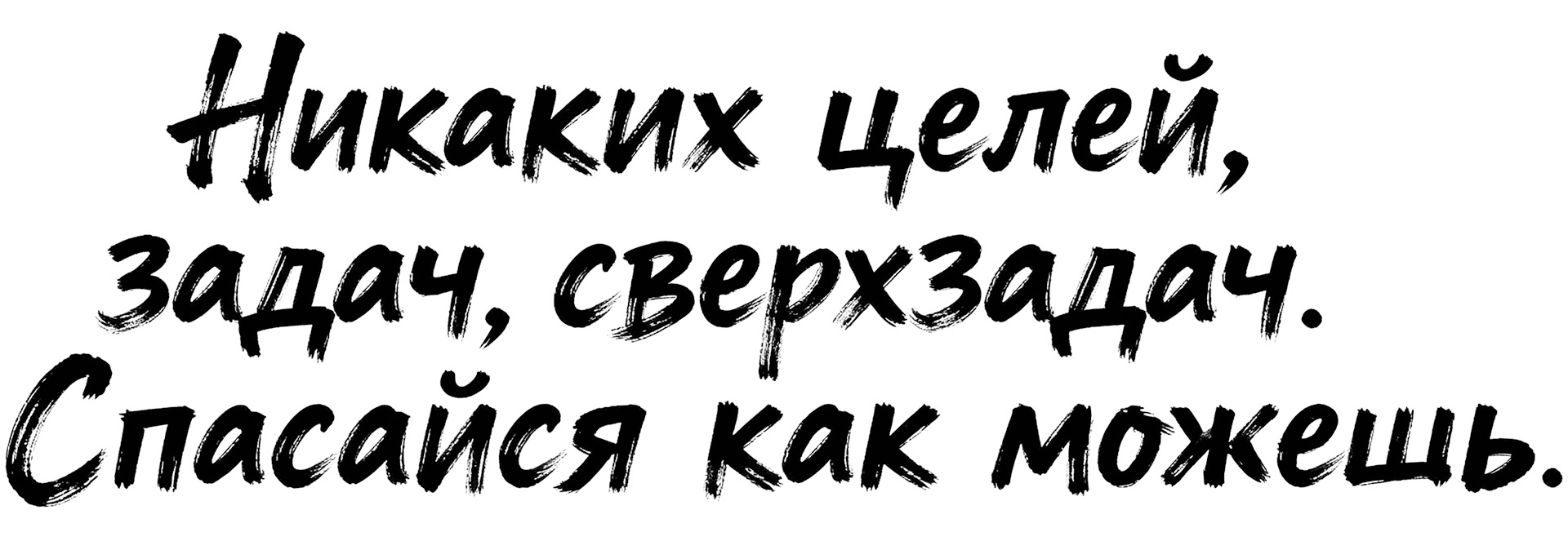Константин Райкин: «Я до сих пор узнаю в себе папино и мамино»
Тема этого номера «Сноба» — «поколения». Я с вами хочу поговорить об этих самых поколениях, в первую очередь об актерских, несколько портретов «написать». Когда вы стали понимать, что папа — большой артист?
Довольно рано, потому что это было совершенно очевидно. Я с детства бывал на его спектаклях, и с публикой там происходило что-то такое, что для ребенка было в новинку. Это была «рожь на ветру»: люди вываливались из кресел, еле усаживались обратно. Все смеялись, а мне было не смешно: я смотрел по сторонам, изучал.
Я себе очень примерно представляю Аркадия Райкина. То есть я, конечно, видел выступления, но это все равно очень большая дистанция. Каким он был?
Конечно, он был гениальным артистом. Настоящим «служителем театра» в самом высоком смысле слова. Сцена его спасала. При этом он не «напитывался» от эстрады, его источники вдохновения были в классических видах искусства: в симфонической музыке, в живописи, в драматическом театре, даже в балете. И надо сказать, что его близкие люди, друзья в отношении той же симфонической музыки были очень эрудированны. Например, Леонид Утесов: он был папиным «старшим товарищем», иногда у нас бывал и тоже был человеком невероятно эрудированным в этом вопросе.
Кто еще у вас «иногда бывал»?
Был, например, Джон Пристли, который написал пьесы «Опасный поворот» и «Визит инспектора». С ним связана забавная история. Однажды Пристли приезжал в Советский Союз и, конечно, заехал в Ленинград. В то время Николай Павлович Акимов уже успел поставить несколько его пьес у себя в Театре комедии, но лично они никогда не встречались. И вот они встретились, и Акимов спрашивает: «Когда вы напишете для нас пьесу?» Пристли у него спрашивает в ответ: «А вы сколько уже поставили?» — «Три». — «К вашему распоряжению еще 30» (смеется). Немножко его «осадил».
Помню, как он был у нас дома. Выпил огромную, прямоугольную такую бутылку виски. Здесь, наверное, нужно пояснить, что для Советского Союза виски — напиток, скажем, неочевидный, «непьющийся». Коньяк — понятно, водка — да, а виски — это было не «по-советски». Еще я хорошо запомнил, что он курил сигары. Просидел у нас весь вечер, опустошил бутылку. К нам приходил и Жан-Луи Барро. Можете себе представить?
Честно? С трудом.
Жан-Луи Барро для французского театра — фигура по значимости сравнивая, скажем, с фигурой Станиславского. Великий артист, режиссер. Есть знаменитый фильм «Дети райка» Марселя Карне, где Жан-Луи Барро играет Гаспара Дебюро, великого мима, предшественника школы, из которой потом вышел, например, Марсель Марсо. У нас дома висела афиша этого фильма, и Жан-Луи Барро ее подписал. Когда у нас в гостях был Марсель Марсо, он долго стоял и смотрел на эту афишу (смеется).
Это красиво. Прокрутим время немного вперед: помните свой первый выход на сцену «Современника»?
Помню первый «всерьез» — это «Валентин и Валентина». Мне очень трудно давался спектакль: это был мой любимый театр, и вдруг любимые артисты оказались моими партнерами. У меня характер самоедский, поэтому я очень долгое время был зажат. Так еще и фамилия — Райкин: все неизбежно сравнивали, и от этого было только тяжелее.
В день премьеры «Валентина и Валентины» я утром прочитал стенограмму обсуждения спектакля, и там было высказывание одного критика обо мне. Он говорил, что мое участие — это «большая ошибка», что я «никогда не буду артистом». А потом, на пресс-конференции спустя месяца полтора после премьеры, публично извинялся, рассказывал, что у него изменилось отношение ко мне…
Вам это важно было?
В театре он не понимал ни хрена (смеется). Я ему потом, когда уже руководил театром, много раз припоминал те слова. В другой раз он сказал мне: «Не хотел к тебе заходить за кулисы, чтобы не огорчать. Не понравился мне спектакль». Я ему сразу возразил: «А что же так? Надо было войти, сказать, в самом деле. Вы же ничего не понимаете в театре!» Он возмутился: «Как это не понимаю? Я всю жизнь этим занимаюсь!» Я тогда напомнил, что из меня не должно было «получиться артиста». «Ну я же тогда извинился!» — «Ну вот и снова бы извинились!» (Смеется).
В «Современнике» вы много лет делили гримерку с Олегом Табаковым, не раз называли эти отношения «окопными». Каким Олег Палыч был вне сцены?
Он был очень свободный. Настоящий хулиган. Очень остроумный, невероятно эрудированный, начитанный — уникальный случай. Часто сыпал цитатами, знал кучу фамилий режиссеров, актеров, писателей и поэтов. Он сразу затащил нас, целую компанию «молодых», в преподавание. Он же был директором «Современника».
«Современник» тогда находился на площади Маяковского, возле гостиницы «Пекин»: сейчас там автостоянка, а раньше стояло театральное здание, где был «Современник», его потом снесли. Кабинет Табакова был на первом этаже. А я жил неподалеку. Часто бывало так, что иду куда-нибудь, прохожу мимо и слышу: «Коська! Выпить хочешь?» Оборачиваюсь: открыта форточка, за окном Табаков. Сам он был человек малопьющий, это была такая приманка: «Выпьешь?» И я заходил.
Приятно, когда в Москве есть такое место.
(Смеется) Конечно! Идешь мимо, а тебе директор театра говорит: «Выпьем?» Я заходил: Табаков сидел с пневматическим ружьем, стрелял в стену напротив. В то время мы с ним часто ходили в американское посольство: он брал нас, «молодых», и мы шли к его знакомому, американскому культурному атташе. Он нам показывал фильмы, которые в Советском Союзе больше негде было посмотреть.
Меня эти показы просто сшибали с ног. Например, я тогда первый раз посмотрел «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика. Меня это просто размазало: невиданное кино. Я помню, как только возник первый кадр, сразу стало понятно, что это очень хороший фильм: один глаз Малкольма Макдауэлла с наклеенными ресницами — и уже ясно, насколько это будет здорово. А после показа нас угощали едой…
Какой?
Очень вкусной. И неслыханное название — «пицца»! Я первый раз услышал это слово. Никто из нас не знал, что это такое. Оказалось, что очень вкусно. Сидели Табаков, Люся, его тогдашняя жена, и мы все, человек шесть молодых артистов «Современника». Он говорил: Once more, please! И приносили еще.
Олег Палыч страшно хулиганил: мало того что съедал все, он прямо во время разговора с этим культурным атташе вываливал язык и демонстративно вылизывал тарелку. Атташе округлял глаза, потому что не ожидал от советского человека такого поведения, а Табаков ему говорил: «*****-***** (ничего-ничего. — Прим.ред.). У меня было голодное детство», — дескать, ничего, потерпишь (смеется). При этом по части этикета Табаков был абсолютно образован, ему просто очень нравилось разыгрывать такие сцены.
А как мы оттуда уезжали… Тесно сидели на заднем сиденье, спереди была Люся, а Табаков вел машину и так, не отрываясь от дороги, говорил: «Люська! Посмотри, сколько я всего ******** (наворовал. — Прим.ред.)!» — и вытаскивал из карманов какие-то стеклянные шары, которые лежали на столе в этом посольстве «для красоты». Он почти каждый раз оттуда что-то вытаскивал и только в машине обнаруживал, что что-то взял. Его это вообще не смущало, а на нас (и на американцев) производило впечатление.
Не все Табакова понимали?
Не все. Мой папа, который очень любил его как артиста, совсем не понимал. Он был человек с очень хорошим чувством юмора, но совсем другого воспитания. Табаков ему иногда рассказывал что-нибудь, смеясь, а папа потом пересказывал с ужасом. Например, Олег Палыч мог сказать: «Были у нас гастроли в Германии… Но мы туда больше из-за шмоток поехали», — для папы это было верхом цинизма. Молодежь Табакова очень любила, но папе о таких вещах лучше было не говорить.
Он просто был настоящий трикстер.
Гениальный провокатор, это правда. И всегда мне делал только хорошее.
Я часто его вспоминаю. Олег Палыч иногда был беспощадным, но меня он очень ценил. При этом мог, например, отговаривать играть роль, на которую меня назначили. Всерьез убеждал отказаться, говорил: «Это не твое! Тебе не надо это играть». А роль была главная, большая, меня назначили в экстренном порядке. Я за месяц выучил целую книгу текста. Мой персонаж там говорил, не останавливаясь, весь спектакль. Кашлянуть было некогда. Стоило немного простудиться, и уже была проблема.
Я ему отвечал: «Олег Палыч, я не могу!» Это был спектакль Валерия Фокина. И потом, когда мы его сыграли, Табаков подошел и обнял меня, очень крепко. По тому, как долго он держал меня в объятиях, я понял, что свою неправоту он признает. Хотя прямо мне этого не сказал. Потом еще был момент, когда я уже руководил «Сатириконом», играл синьора Тодеро в постановке Роберта Стуруа, и он вдруг из зала мне подарил букет цветов. Для Табакова это было очень большим жестом.
В нескольких интервью вы говорили о «райкинской породе». По фактуре вы с отцом довольно разные артисты. Можете объяснить, что это за «порода»?
Папа был «костюмный» человек: стройный, красивый — и вдруг он превращался в этих монстров. Мне было легче — характерному артисту вообще легче. Папа тоже был характерный, но там важно было это «чудо перехода».
Но на самом деле общего много. Я в себе узнаю и папино, и мамино. «Порода», я думаю, больше касается внутренних вещей. В профессиональном смысле «райкинская порода» — это работоспособность и склонность к лицедейству. А в человеческом — порядочность. Возможно, из моих уст это прозвучит нескромно, но другого слова нет. Можно назвать это верностью своим принципам. Это райкинское качество.
Моя дочка даже не в подростковом, а еще почти в детском возрасте демонстрировала такие качества. В ней столько мужества и стойкости, сколько, мне кажется, во мне никогда не было. Например, она оказалась одна против всего класса, потому что очень любила учительницу, которую родители и учителя вместе вынудили уйти из школы. И моя дочка ушла в другую школу вместе с этой учительницей. Это было ее желание.
Как она вам его объясняла?
«Должна так сделать».
В 11 лет?
Да, это невероятно. В детях же особенно сильно стадное чувство: мы хотим быть вместе, для нас это защита, равновесие. И вдруг ты один. Я тоже помню, как нас принимали в пионеры, а кого-то не приняли. И дело здесь совсем не в убеждениях, они не играют роли: просто были вместе, а теперь — нет. Тяжелая ситуация.
Когда вы Полину «рассмотрели» как актрису?
Еще в институте. Я не ходил на показы, чтобы не было этой пошлой ситуации «смотрите, папа пришел». Когда все смотрят на папу, который смотрит на дочку. Я сам такое ненавидел, но при моем папе видео еще не было, посмотреть «после» было нельзя, поэтому приходилось папу тайно приглашать на отдельные прогоны, чтобы он один посмотрел. Работы Полины я, к счастью, мог посмотреть на видео и на ее третьем курсе уже точно понимал, что мне в театре такая артистка нужна.
«Такая» — это какая?
Она яркая, умная, характерная — и очень широкого диапазона. Склонная к «обезьянничаньям» в самом актерском смысле этого слова. Хорошо перенимает какие-то социальные повадки, манеру говорить. И она очень разная. Я ей сразу сказал: «Можешь считать, что я тебя приглашаю». И она, конечно, ответила: «Нет». Потому что вокруг нее всегда говорили то же самое, что и вокруг меня: «Ну, ты, конечно, тоже будешь актером!». А потом еще противнее: «Ну, ты, конечно, пойдешь к папе!».
Меня это возмущало, и ее тоже. Поэтому она пошла в театр Станиславского. Я говорю: «Хорошо, ну а на роль я тебя могу пригласить? Будешь актрисой театра Станиславского, а у меня сыграешь один раз». На одну роль она согласилась. Потом на вторую, на третью… (смеется) После трех ролей ей уже директор нашего театра сделал предложение, как-то отдельно от меня с ней поговорил — и смог убедить для простоты взаимоотношений перейти уже окончательно к нам. Но это было долго.
В августе не стало Юрия Бутусова: вы много очень точных слов о нем уже сказали, но я попрошу сказать еще несколько. В чем его феномен?
Это уникальный режиссер. Его недостатки благодаря гениальному дарованию превращались в достоинства. Он не признавал никакой методологии, вообще не работал по Станиславскому: никаких разборов роли, «что происходит?». Никаких целей, задач, сверхзадач. Спасайся как можешь.
Он мог работать только с «самоигральными» артистами: с теми, кто сам может «выплыть» из той полной жопы, в которую Юра всех повергал всегда. Это был его главный принцип. Так можно было работать только ему, потому что результат окупал все. Но работать приходилось только в состоянии отчаяния: он и себя, и артистов доводил до полной растерянности. Это для него и было «рабочим состоянием».
Все, что я не люблю в работе, у него было. Репетиция была не репетиция, а какое-то… времяпрепровождение. Они никогда не начинались вовремя, никогда не кончались. Это было черт-те что: раздражение, возмущение, дикая усталость. Все, что ты умел до этого, чему сам учишь других, что для тебя являлось «методом», не годилось.
Как тогда вообще собирался спектакль?
Неизвестно, загадка. Никто не может это объяснить. В основном благодаря его интуиции и нервному напряжению людей, которые умели сами что-то проанализировать, предложить. Что артист предложит, такая и будет концепция. Слушать, что Юра говорит, было невозможно: каждая следующая фраза отрицала предыдущую. Если бы это кто-то записал, на бумаге выглядело бы как полный абсурд. И не дай бог кому-нибудь пришло бы в голову показать эту бумажку ему: «Я никогда такого не говорил».
Все это я говорю с огромной любовью к нему. У нас с Юрой было… моя жена называет это «векторным кольцом»: когда и друг с другом невозможно, и друг без друга невыносимо. Мы очень давно с ним сошлись, очень нежно друг к другу относились. При этом я разрывался от муки, меня лучше было не видеть в моменты репетиций. Поэтому Юра никого туда и не пускал: это было невыносимо даже просто наблюдать. Мясорубка.
Кому-то с Бутусовым работалось проще, чем вам?
Если вы спросите об этих репетициях, например, Тиму Трибунцева и перескажете ему мои слова, он только пожмет плечами. Потому что он «поплавок», непотопляемый. Ему все равно. Он обожал Юру, ему это было очень понятно, потому что он работает не «от головы». А я — «от головы»: мне дано понимать и хотеть понимания, и это страшная вещь. Даже не так: я должен понимать, а понять то, что предлагал Юра, было нельзя, просто невозможно.
Как вы с этим справлялись?
Заставлял себя работать, не понимая. Это был кошмар. Я приходил на репетицию, а там несколько человек уже себе что-то придумали. Напихали «чего-то» во все щели, ходят перекошенные. Я у Юры спрашиваю: «Мне что делать? Что мне придумывать? И куда пихать? У них уже во все места напихано». Тима в то же время себя чувствовал естественно: ходил, посмеивался.
Мы с Юрой иногда очень интересно разговаривали. Я ему что-то рассказывал. Это странно, но он при всем, что я уже сказал, был совсем как ребенок: непосредственный, доверчивый, легко пугающийся. Впечатлительный очень. Эгоистичный, конечно. По чужому самолюбию ходил и не понимал, что другим больно. А будет ему больно — заплачет сразу. Потому что ребенок, еще и ленинградский. Была в нем какая-то беззащитность. При этом гигантское дарование. И ухватить нельзя — ускользает.
Чтобы закончить о поколениях: вы сейчас готовитесь выпустить уже третий курс в Высшей школе сценических искусств. Ваши студенты разных лет между собой похожи?
Первый набор ВШСИ был потрясающий: я до сих пор души в них не чаю. 14 человек я взял в театр — и это настоящие бойцы, к тому же очень хорошие люди, которые в «Сатириконе» сегодня самые играющие артисты вообще. Трудно назвать спектакль, чтобы они в нем были не заняты. А вот с предпоследним и нынешним курсами у меня очень сложные отношения. С последним все идет особенно тяжело.
А в чем дело?
Так подобрались. Ну, так я себе объясняю (смеется). Поскольку я самоед, прежде всего это отношу к себе, думаю: «Старею, что ли?» Конечно, я старею. Но, думаю, дело не в этом. Говорят еще, что это «такое поколение», но нет: на одном этаже с моим учится другой курс — и там есть все, что я люблю. Но там нет меня. А там, где я, есть все, что я терпеть не могу: отсутствие инициативы, индивидуализм, дикая нежность к себе, отсутствие интереса к партнеру…
Заранее это понять было нельзя?
Нельзя. Я ведь очень дотошно набираю. Спрашиваю, уточняю, беседую. Но это не исключает ошибки. Я не могу влезть к студенту в голову. И теперь имею возможность посмотреть, как работают те, кого я не взял. Потому что другой курс, о котором рассказываю, состоит в основном из тех, кого я «скинул» в последний момент. И теперь меня постоянно терзает вопрос: «А тех ли я оставил? А тех ли я скинул?»
Вопрос, который я хочу задать, возможно, еще сложнее: что будет с «Сатириконом» после вас?
Пока мне сложно сказать. «Сатирикон» — это ведь мой ребенок. Я чувствую себя его родителем. И мне, конечно, не все равно, за кого выдать замуж — или на ком женить — своего ребенка. Пока что у меня очень невеселые фантазии на этот счет.
Какого рода?
Что развалится все. Что все разбегутся.
Надо сохранить и развивать театр. Дальше это будет делать кто-то другой, но мне нужно найти того, кто мог бы это сделать. Мне совершенно необязательно командовать. Я понимаю, что нужен здесь в качестве «локомотива», но во что бы то ни стало сохранять эту роль я не хочу. Пока просто не вижу, кому бы мог ее доверить. Потому что быть режиссером-постановщиком — это одно, а художественным руководителем — совсем другое. Это целый букет функций и задача гораздо объемнее.
Вам «Сатирикон» доверили «на вырост»?
Нет, я был готов. И видел, что папа знает, что я готов. Надо сказать, что ему в этом плане очень повезло (смеется). То есть мне, конечно, повезло с родителями, но им с детьми — тоже. Если видишь, что твой сын может взять на себя такую ответственность, это классно. А папа это увидел, конечно. И я увидел, что он увидел.
К Полине вы так присматриваетесь?
Полина — очень серьезный человек. Она прекрасно преподает. Мне надо еще посмотреть, потому что театр — это еще серьезнее. Пока что вижу ее одной из строительниц. Она такой и является. Насчет главной «тяжести» — надо подумать.
Беседовал: Егор Спесивцев
Стилист: Тамара Рамазанова
Визажист: Ольга Арманд
Журнал представлен в бизнес-залах терминала С аэропорта Шереметьево, в бизнес-залах S7 аэропортов Домодедово и Толмачёво (Новосибирск), в VIP-зале аэропорта Пулково, а также в поездах «Сапсан».
Свежий выпуск также можно найти у партнёров проекта «Сноб»: в номерах отеля «Гельвеция», в лобби гостиниц «Астория», «Европа», «Гранд Отель Мойка 22», Indigo St. Petersburg–Tchaikovskogo; в ресторане Grand Cru, на Хлебозаводе, в Палатах на Льва Толстого и арт-магазине CUBE, в арт-пространстве BETON и на площадках Товарищества Рябовской мануфактуры.