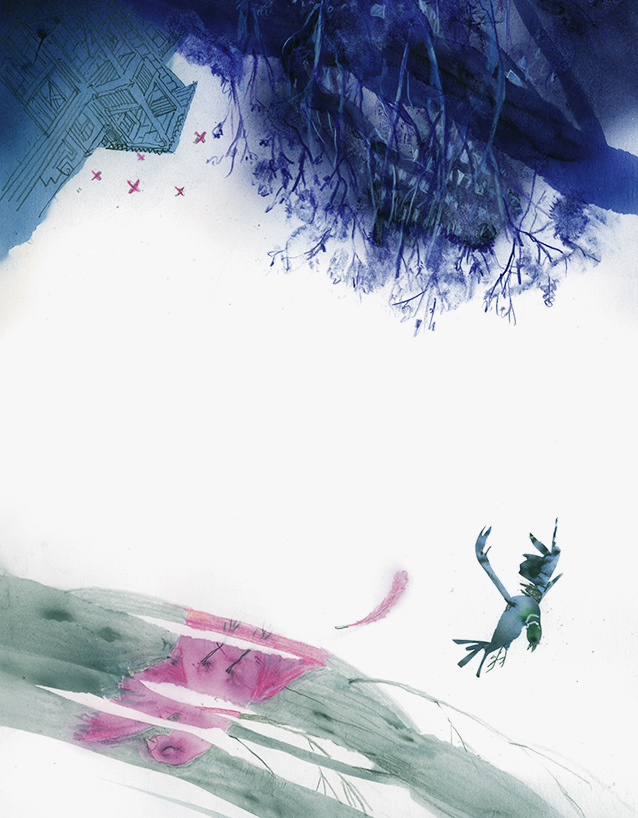Опера
– Я ничего не вижу.
– Идите на мой голос. Вот сюда. О, какое страшное у вас лицо!
– Пуля попала мне в глаз.
– Вы прослушали инструкцию во втором отделе?
– Да.
– Приступайте.
– Я был убит на войне…
– Нет, это не война, а военный конфликт.
– Как скажете. Мы перешли в наступление, нам надо было захватить мост. Я бежал по полю, когда пуля попала мне в глаз, и я упал. Все.
– Почему вы оказались в зоне конфликта?
– Утром за мной зашел школьный товарищ и сказал, что они едут на войну. Извините, в зону военного конфликта, на море. Он сказал, что один из ребят заболел и в машине есть место. От нашей деревни до зоны конфликта ехать всего несколько часов.
– Вы согласились не раздумывая?
– Да.
– У вас было оружие?
– Автомат Калашникова, но не мой, а того парня, что заболел.
– Вы сразу же выехали?
– Нет, мы еще чай выпили вместе.
– Какое участие вы принимали в военном конфликте?
– Что?
– Вы убили кого-нибудь?
– Я не успел.
– Вы сожалеете об этом?
– Было бы справедливее, если бы и я кого-нибудь убил, не только меня, а? Как вы думаете?
– Вы не имеете права задавать здесь вопросы.
• • •
Когда ночи вдруг стали жаркими, как объятия женщины.
Когда до Тбилиси с моря долетели чайки. Птицы грязные и крикливые. Добежали беженцы. Тоже грязные и крикливые. И разруха пошла за войной по пятам, как грузинская жена, сопровождающая мужа.
Когда дерево, что росло посредине дома моего – между печкой без газа и краном без воды, – выбросило ягоды белые, ягоды-альбиносы.
Я забрался на крышу – дерево торчало из крыши, как труба, – и выше, по стволу. Я увидел, что оно умирает. Муравьи перестали ползать по нему, вверх-вниз, вверх-вниз, суетливые и озабоченные, как мы.
Я задумал написать оперу, в которой все – мертвые. И вот они являются на тот свет и ждут встречи с Богом. И прижимают к себе вещи и вещички, которые передали с ними рыдающие родственники. Но их встречают какие-то бюрократы, задают вопросы, заполняют бумаги, отбирают вещи и вещички…
Не знаю, почему я выбрал такую тему. Может, потому, что я видел мертвецов почти каждый день. Не хоронили только в понедельник и пятницу, но панихиды проводились ежедневно. Если, конечно, не футбол. А то кто ж к тебе придет, если игра? Или от жары. В такую погоду петь над покойником – лучше самому умереть.
От жары даже тараканы потеряли разум. Выползали на середину комнаты и устраивали совещания долгие, как партсобрания. Для меня это был верный знак – сейчас тряхнет. Я больше не боялся землетрясений. Я однажды танцевал, когда трясло. Эстатэ снимал туфель и бил тараканов каблуком. И ждал: кто следующий, а?
Это лето пришло без весны. И без запаха фиалок. Каждую весну на всех углах улиц продавали фиолетовые фиалки. За пять копеек продавали весну. Сейчас торговали трупами и местами захоронений. Обменивали пленных. Брали пленных впрок. И пули купить было проще, чем цветы.
Жужуна опять пополнела, и ее глаза ушли вглубь, как амбразуры. Она закрывала их, чтобы не видеть, как я одеваюсь. Как я ухожу. Свешиваюсь с балкона и прыгаю наземь. Ее родители, на первом этаже, притворяются спящими. Их подбрасывает от моего прыжка, как от землетрясения. Мы привыкли к землетрясениям так же, как и к войне.
Горючее пропало, и по улицам, словно собаки на поводках, рыскали только троллейбусы. Их брали приступом, как крепости. Забирались на крышу. Водитель выходил и просил людей – слезайте, я из-за вас в тюрьму пойду! Он пытался стащить их за ноги, а они отбивались. Пассажиры, со вжатыми в стекла носами, орали – езжай, чего стоишь! Пот мочил им резинки трусов.
Трусы у всех были из красного шелка. Советский флаг, а не трусы. Шелк прилипал в жару к телу, как поцелуй.
И кто-то все-таки попал под колеса. И Васо, соседа моего, затаскали по кабинетам полиции. А у Васо ноги опухали. Он всю жизнь провел в шлепанцах. Он троллейбус водил босыми ногами. И теперь он ходил на допросы в ботинках, и плакал легко. И какой-то полицейский сжалился и сказал ему прямо – человек чуть не погиб, а ты отсюда бесплатно выйти хочешь. И мы собрали во дворе кто сколько мог, и Эстатэ сдал больше всех. Эстатэ теперь считал себя виноватым во всем, что происходило на земле.
А жилец с восьмого этажа, художник, поймал голубей и выкрасил их в розовый цвет. Розовые голуби летали в бледном небе вместе с грязными чайками и какали. Мужчины решили, что он педераст. А Аннушка сказала – спасибо тебе, Господи, за то, что на свете есть красота.
И однажды на чьих-то похоронах какая-то женщина кричала так, что умерла. И ее понесли на руках, высоко подняв над толпой, и все смотрели на ее трусы, красные, собранные резинкой у колен. И Эстатэ сказал – вот, меня никто не будет так оплакивать, чтоб умереть. Но никто не вспомнил, кто эта женщина или какое отношение она имела к покойному.
И я понял, что скучаю по тебе, как по марту, как по цвету фиалок, как по запаху весны.
• • •
По воскресеньям я хожу в церковь. Я пою там вместе с Эстатэ. Двор церковный – в грязных перьях. Чайки бьются за кусочки хлеба. Поп подает нищим, придерживая рясу. Бабы-фанатички идут за ним и тоже приподнимают длинные юбки. Нищие бросаются за подаянием, отталкивая друг друга.
Я не люблю попа, потому что знаю его хорошо. Он когда-то учился в моей школе и был дрянью. Если нас ловили, курящих в туалете, он кричал, что не хотел курить, это мы вставили сигарету ему в рот. Наша директриса Маро раздавала нам оплеухи, но не трогала его. Она говорила, что из него все равно ничего не выйдет.
И когда это случилось, в церковном дворе, поп был виновен, как ни крути. Это он попросил Эстатэ – сделай что-нибудь, нельзя, чтобы ворон сидел на церковном кресте. Потому что для Эстатэ что вороны, что чайки. И теперь Эстатэ мучит раскаяние.
Хотя кто больше виновен, чем я?
Эстатэ будит меня по воскресеньям, и мы идем в церковь. Напрямик, через кладбище для знаменитых людей. Знаменитых мертвецов так много, что они лежат в земле в обнимку. От землетрясений, которые трясут нас, как в сексе, памятники скосились и тоже падают друг другу в объятия.
Эстатэ теперь чаще заходит к нам в дом. Снимает туфель и бьет по полу. Раньше говорил, что не может видеть, как дерево растет между печкой и краном. Все предлагал мне его спилить. Хотя это было единственное дерево в нашем дворе. Сад уничтожили двадцать лет назад, чтобы построить восьмиэтажки. А оставшиеся деревья прошлой зимой пошли на дрова.
В восьмиэтажках жили все: Ия, Эстатэ, полковник, Аннушка, худой историк с толстой женой, а также бабка моя, нелюбимая. Ни в одной квартире не было даже веточки. И живности не было – ни собак, ни рыбок. Одни тараканы. Те, кто умер или переехал, продолжали числиться жильцами, чтобы не пропали талоны на продукты.
Полковник, правда, пытается развести на балконе помидоры. Он поливает их на рассвете, когда не может заснуть. Полковник – русский. Он воевал в Афганистане, а потом его списали к нам. Потому что климат у нас похож на афганский, а он к нему привык. Он выходит на балкон с чайником, и все старые девы с нашего двора тут как тут. В прозрачных ночных рубашках. Делают вид, что разбужены звуком воды. Помада на губах, бигуди в волосах. Они кажутся себе сексуальными. Полковник забыл про секс еще в Афганистане. Он пьет до рассвета, поливает помидоры, а утром идет на базар продавать бутылки.
Аннушка кричит по утрам павлиньим голосом – мамочка, а-ах, еще, еще! Никакая война не заставит ее замолчать. Аннушка влезает в свой корсаж. Маленькая Анна, внучка Аннушки, затягивает ленты на ее спине. Груди Аннушки ползут к небу. Ее шея исчезает в двух шарах, головы не повернуть. А-ах, еще, еще!
В детстве я мечтал, что меня однажды позовут к Аннушке. Я упрусь ей ногой в зад и затяну все ленты до предела. Ах, мамочка… И, кажется, я не любил Ию. Тогда, в детстве. Я бегал со всеми детьми со двора за ее отцом и кричал – ги-жи! ги-жи! (то есть сумасшедший). Потом появлялась Ия, рыжая, бледная, в тонком платье всегда не по сезону, и брала своего отца за руку. Она провожала его мимо нас, проходя как сквозь строй.
В то время весна следовала за зимой, как по расписанию. Зимой иногда выпадал снег. Старики надевали галоши. Черные и блестящие, словно правительственные машины. Все становились поэтами. Запирались на чердаках и писали поэмы о любви. Снег таял быстрее, чем выходили рифмы.
Я знаю, я сам писал поэмы о любви.
И приходил март, который называли «гижи», как Ииного отца. Погода менялась десять раз на день – то снег, то дождь, то солнце. Не понять. И запах фиалок. На всех углах улиц – фиолетовый цвет.
Я думал о тебе, Ия, в это воскресенье. Черный ворон летал над моей головой.
• • •
Мы с Эстатэ работали каждый день. В нашем городе убивали чаще, чем на войне. Люди умирали от голода, еще не названного голодом. Исхудалые интеллигенты воровали на базарах фрукты-овощи. Подбирали с земли окурки. Умирали. Не было бензина для катафалков. Легковые машины, редкие, разъезжали с гробами на крышах. Живые люди часто выглядели, как мертвецы.
Я выбирал героев для своей оперы тщательно, из большого числа претендентов. Я создавал образы, основываясь на конкретных лицах. Каждый день я рассматривал нового мертвеца, и родственников его, и вещи, что закладывали с ним в гроб, и выбирал. И обобщал.
Либретто я набросал быстро, а теперь работал над диалогами. Я думал придать им поэтическую форму позже. Основными персонажами были мужчины. Это лишало мою оперу привлекательности. Я пел за всех, кого создавал, и зевал. И уже тогда, в самом начале работы, я решил, что неплохо было бы, если бы среди мертвецов затесался хоть один живой человек.
Я не обсуждал свои планы ни с кем, даже с Нанули. Нанули не всегда понимала меня, как всякая мать. Она говорила мне – женись на Жужуне! Она была счастлива, что я похож на отца. А я не разделял ее восторга, и это ее обижало.
Мой отец умер, когда мне был всего год. Я не помню его совершенно. Я знаю его по фотографии, которую Нанули прибила к дереву в центре нашего дома. Муравьи иногда сбивались с курса и ползли по его лицу. Я ждал его все мое детство. Я не верил, что он умер от аппендицита, когда чьи-то папы умирали как герои. Я хотел, чтобы он собирал мне ягоды с крыши. Я ждал, а он не пришел.
Мы жили с Нанули между двумя восьмиэтажками, и ягоды, фиолетовые, покрывали крышу, как снег. Участковый часто напивался и барабанил нам в дверь: «Лучше сами убирайтесь, а то приведу трактор и все разнесу!» Оказывается, нашего дома больше не существовало на официальных картах. Мы должны были теперь съехаться с бабкой по решению какого-то там начальства.
Но мы не любили нашу бабку, ни я, ни Нанули. Мы продолжали жить вместе с деревом, наблюдая за суетой муравьев.
Я брал у бабки уроки фортепиано. Она поджидала меня с линейкой в руках. Я играл, сидя на двух подушках и дрожа от страха. Бабка оттягивала конец линейки и давала мне по пальцам, когда я ошибался. Или по губам. Потом хватала меня за волосы, у виска, и таскала за собой по квартире.
«Что поделать, – говорила Нанули, когда я плакал, – иначе не поступишь в консерваторию».
Я хотел поступить в консерваторию, чтоб меня перестали бить. И я окончил консерваторию и теперь пою на похоронах вместе с Эстатэ, портным-пенсионером.
Бабка пыталась выдать Нанули замуж. Много раз. Она ходила в общественные бани и парикмахерские и заводила нужные знакомства. У нее был список всех городских женихов. Она не могла пережить, что мой отец был деревенским. Бабка запрещала мне называть Нанули «мамой» и хотела усыновить меня, потому что боялась, что Нанули не возьмут замуж вместе со мной.
«Кому она нужна с этим уродцем?» – говорила бабка. Знать, бабка тоже признавала, что я похож на отца. И Нанули не взяли, может быть, и впрямь из-за меня.
Моя бабка умерла в прошлом году. Она не закончила жить, она закончила умирать. Ее разбил паралич десять лет назад, и Нанули переехала к ней, чтоб убирать говно. Бабка почти не говорила в последние годы. Она шевелила пальцами одной руки. По-моему, она нащупывала линейку, когда видела меня.
Восьмиэтажки смотрели друг другу в окна, как пехота – в лицо врага. Дома были забиты девицами, не дождавшимися супружеского секса. Молодых мужчин стало мало из-за войны. И хлеб выдавали по одной буханке в руки, никто не хотел в семью лишний рот.
И по ночам, все чаще, нас болтало, как в последнем вагоне поезда.
Я просыпался от стука ягод по крыше и бежал в восьмиэтажку будить Нанули. Все бежали мне навстречу. Старые девы прыгали через три ступеньки. Спасали никому не нужную жизнь. Матери волокли кричащих детей и сумки со столовым серебром. Полковник хватался за именной пистолет.
После землетрясения всегда шел дождь. И улицы становились мокрыми, как утренние цветы.
А потом, сразу, жара.
Женщинам надоело стесняться. Они надели платья без рукавов. Их подмышки выбритые, сизые, как лица заключенных. Их руки полные, как ноги. Они прижимали к телу сумки, когда ходили по базарам. Весь город был один большой базар. Заключенные задыхались.
Все ходили к гадалкам и спрашивали про будущее. Некого было больше спросить. Гадать было грешно. Грех можно было замолить. По воскресеньям все церкви были полны.
Я часто слушал, о чем просили люди Бога. Тоненькие маленькие девочки зажигали тоненькие маленькие свечечки и просили смерти врага. Смерти президента. Смерти! Смерти! И Бог, бессмертный, как и Ленин, выслушивал молитвы и молчал.
• • •
– Здравствуйте!
– Здравствуйте, батоно! Вы чей сын будете?
– Вы не можете задавать здесь вопросы. Здесь вопросы задаю я.
– Я не хотел вас обидеть, батоно. Я человек старый, я многого не понимаю.
– Сколько вам лет?
– Я не знаю.
– У меня есть ваше личное дело. Вам девяносто три года.
– Девяносто три? Ну, хорошо.
– Вы прослушали инструкцию во втором отделе?
– Простите?
– Вы должны рассказать Чрезвычайной комиссии о последнем дне вашей жизни.
– Кому я что должен, всем все прощаю.
– Не понимаю.
– Если кто ждет от меня чего-то и ненавидит меня за это, я им прощаю.
– Ваши показания очень важны. Вы на сегодня старейшая жертва военного конфликта. Постарайтесь вспомнить ваш последний день во всех подробностях.
– Почему у меня нет мизинца?
– Напоминаю вам: вы не имеете права задавать вопросы. У вас отрезали мизинец, потому что не могли снять с него перстень. А портрет вашей жены Маргариты, что был при вас, не тронули.
– Вы все знаете, батоно. Зачем же вы спрашиваете?
– Поймите, пожалуйста, Чрезвычайная комиссия временно работает в вашем регионе и собирает информацию о военном конфликте.
– А что вы потом делаете с этой информацией?
– Я передаю ее в четвертый отдел.
– Маргарита, любовь моя. Я хочу видеть Маргариту.
– Пожалуйста, отвечайте на вопросы. Вы меня совсем замучили. Подумайте, вам еще столько отделов проходить!
– Какие отделы? Что? Я не понимаю.
– Ну, вы встретитесь с сотрудниками нескольких отделов, а потом в седьмом отделе вам сотрут память и…
– Зачем стирать мою память, батоно? Я и так ничего не помню.
– Это безболезненно. Вы же сейчас ничего не чувствуете.
– Я люблю. Запишите: я люблю.
• • •
В один из воскресных дней мы с Эстатэ выехали в деревню под Тбилиси. От нее до зоны конфликта – всего несколько часов. Отпевали покойника в такой маленькой церкви, что его ноги торчали наружу. Пошел дождь, и женщины сомкнули над ногами черные зонты. Мы с Эстатэ пели у входа. Вода затекала нам в рот.
Начали выносить гроб. Эстатэ засуетился, желая помочь. Мужчин было мало. Мертвец был в белом костюме, как жених, и в черных туфлях. Лицо его – под белым полотенцем. Женщины зарыдали хором и обступили гроб. Они подталкивали девушку в черном, с крестом на груди, жену, наверное, или невесту. Они заглядывали ей в лицо и ждали, когда она закричит. Хору нужен был солист. Она молчала и портила этим все горе.
Процессия в черном, с мертвецом в белом, стала спускаться по горе к кладбищу. У разрытой ямы стояла машина, на ее капоте – две бутылки вина и хлеб. Гроб поставили наземь, и женщины завыли в последний раз. А девушка опять – ни звука.
И тогда старуха в черном, с кривыми пальцами, сорвала с лица мертвеца полотенце.
Я понял, что падаю, я понял, что кричу. Эстатэ держал меня за ребра, а я кричал и бился в его руках.
У мертвеца было страшное лицо. Пуля прошла через глаз.
Под гроб просунули веревки и стали опускать его в яму. Старуха с кривыми пальцами бросила первую горсть земли и пошла по горе вниз не оборачиваясь. Девушка – жена или невеста – будто очнулась и теперь рвалась к яме, где исчезал под землей гроб. Ее крест болтался на груди. Мужчины отпивали из стаканов и выплескивали вино на могилу. Вино смешивалось с каплями дождя.
Нельзя поддерживать друг друга, выходя с кладбища. Я шел один по мокрой траве. Эстатэ шел рядом, молчал и, наверное, чувствовал себя виноватым. Я сказал ему, что хотел бы вернуться в Тбилиси сразу, не дожидаясь свадьбы. Он начал расспрашивать насчет машины, но ничего не достал. Люди, с которыми мы приехали на похороны, были приглашены и на свадьбу, а больше машин не было.
Невеста втягивала живот, как Аннушка, когда вставала вместе с женихом выслушивать тосты. Я немного пришел в себя. Я заметил за длинным столом лица, знакомые с похорон. Старуха в черном, с кривыми пальцами, сидела напротив и пила не хуже тамады.
Не было возможности поговорить с Эстатэ. Он развлекал сидящих вокруг женщин. Эстатэ всюду находил женщин, готовых прижать его лысую голову к своей груди. Ему за это часто попадало. Обсуждал он обычно две темы: был ли Горбачев американским шпионом и можно ли мужчине танцевать ламбаду. И женщины расстегивали кофточки, задыхаясь от смеха.
Я хотел спросить Эстатэ, думает ли он, что я – убийца. Странное совпадение, не правда ли? Пуля – в глаз. Почему мысли мои извилисты, как улицы в Тбилиси? Виденья мои зыбки, как сны, мечты или воспоминания. Зачем я пишу оперу? Почему я сплю с женщиной, которую не люблю?
Нас было много в машине по дороге в Тбилиси, и я молчал, а патруль останавливал нас тут и там и проверял документы, и обрывал мои мысли. Я хотел говорить об опере. Я оглядывал патрульных с автоматами наперевес. Кто следующий, а? И потом, когда я пробрался к Жужуне и она открыла свои амбразуры, я хотел только, чтоб меня выслушали. А Жужуна сказала, что любит меня, и я опять замолчал, глядя в окно.
Я никогда не говорил тебе этих слов, Ия. Я пишу оперу для тебя.
• • •
После похорон воина, погибшего от пули в глаз, я не писал несколько дней. Однако очень скоро я сумел убедить себя, что я ни в чем не виновен. Произошло случайное совпадение, вот и все. Я не имею и не могу иметь отношения к смерти парня на войне.
И я продолжил свою работу. Я возвращался от Жужуны за полночь и ждал, пока небо станет светлей. Я смотрел из окна на то место между восьмиэтажками, где должен был появиться серый кусок неба. Я не мог работать по ночам, потому что свечи, припасенные с зимы, расплавились от жары. Потом я поднимался в бабкину квартиру и проигрывал то, что написал. Нанули гостила в деревне у родственников отца – они ее подкармливали, я думаю, – и я был один. Кто-нибудь из соседей обязательно стучал мне в дверь. Либо говорил, что нельзя играть, потому что у кого-то на каком-то этаже горе и все слышно, либо, наоборот, просился послушать.
Я любил, когда приходила Аннушка. Прямая спина и бюст под подбородком, будто она держит его на подносе. Аннушка садилась со мной рядом, а маленькая Анна стояла возле пианино и следила за моими пальцами. Глаза маленькой Анны трепыхались за стеклами очков, как рыбки в аквариуме.
«Ах, – говорила Аннушка, – я забываю, что война. Играй, играй! Господи, что люди делают? Что им не нравилось? Ведь как мы жили при Союзе? И мясо было, и масло, и у всех в доме пианино было. Мы с мужем ходили в оперу раз в неделю, раз в неделю! И в театр…»
Мне нравилось, как Аннушка пахнет. Я преклонялся перед ней за то, что она красивая, несмотря на свой возраст, несмотря на войну. И я не знал, как выразить это. Иногда, на богатых похоронах, я просил, чтобы мне вместо денег дали цветы. Я приносил их Аннушке, и ее глаза наполнялись слезами. «Ах, – говорила Аннушка, – ах!» А я молчал.
Я умею выражать себя только в музыке.
Эстатэ бегал по всему городу, чтоб найти нам работу. Становилось все трудней. Уже профессиональные певцы из театра оперы и балета подрабатывали тем, что пели на похоронах. Электричество давали на два-три часа в день, а то и нет, потому магнитофоны не могли заменить нас, только певцы. Но многих хоронили вообще без музыки.
Эстатэ решил, что иногда мы должны петь бесплатно, зато кто-нибудь запомнит нас и потом, когда понадобится, пригласит. Таким образом мы попали на похороны очень древнего старика. Родственники выкупили его труп за большие деньги, у них не осталось на музыку.
Мы прошагали почти через весь город. Троллейбусы стояли. Наш Васо все дни проводил во дворе, в шлепанцах. Люди шли по проезжей части улиц, как на параде. Все в пыльной одежде, все в стоптанных туфлях. Встречали знакомых – сбивались в кучу. Разворачивали газеты, свернутые в трубочки, и прикрывались от солнца.
Старик жил на самой окраине города, в конце Сабуртало. Женщины подметали двор перед панихидой и пересмеивались. Дети гоняли мяч и кричали. Не было той тишины, торжественной, которой обычно окружают мертвеца. Мы вошли в комнату с гробом посередине, и никто не вышел нам навстречу.
Я сел на один из стульев, расставленных у стены, и посмотрел на покойника. Старик был похож на Сталина. Он и руки держал, как Сталин в гробу, – по швам, а не сложенные на груди. Старик до пояса был прикрыт шелковым покрывалом, и у ног его лежал женский портрет.
Эстатэ пошел поговорить с родственниками. Он предлагал им наш репертуар. Иногда люди просили исполнить похоронные песни той части Грузии, откуда был покойник. Мы отвечали требованиям заказчика.
Родственники старика спросили, можем ли мы спеть что-нибудь по-французски, старик, оказывается, был из старой интеллигенции, обучался в Париже. «Это будет ему приятно», – сказала женщина с растрепанными волосами, дочь старика. Она говорила о нем как о живом. Она сокрушалась, что нельзя включить вентилятор, «ему ведь жарко в костюме».
Впрочем, я часто наблюдал, как людям в дни горя изменял разум. Я сказал, что по-французски могу спеть только «Марсельезу», и дочь старика сразу согласилась.
Появились люди. Они обходили гроб по кругу и пожимали руки родственникам. Родственников собралось довольно много. Женщины сидели возле стен, мужчины стояли. Никто не плакал. Разговаривали шепотом. Хруст разворачиваемых букетов. Запах женских духов. Запах мертвого тела.
Старику было жарко в костюме.
Мы с Эстатэ запели. Эстатэ закрывал глаза, когда пел, а я осматривал женщин, проплывающих мимо гроба и мимо меня. Людской поток стал гуще. Я запел «Марсельезу». Люди пошли бодрым шагом, в такт музыке. Или, может, они просто спешили вернуться домой до темноты.
И вдруг дочь старика закричала павлиньим голосом.
«Не дали тебе умереть по-человечески, – причитала она, – на старика руку подняли! Будь они прокляты, фашисты это, а не люди! Маргарита, куда ты смотрела? Из-за перстня какого-то человека убить? А он никого в своей жизни не обидел! Девяносто три года прожил, а никто дурного слова не скажет! Вайме! Горе мне!»
• • •
В самый разгар жары ударил град. С неба падали льдинки величиной с кулак. Машины, что стояли в нашем дворе без движения с тех пор, как пропал бензин, покрылись вмятинами, как оспинами. Град сбил с моего дерева ягоды и листья, и теперь оно умирало в наготе.
Тут же начались разговоры о том, что Бог шлет нам наказание за грехи. И землетрясения тоже не зря. Хотя многие выдвигали предположение, что землетрясения вызываются искусственно врагами Грузии. Есть специальные засекреченные лаборатории, вы не знали?
Газеты печатали статьи, полные намеков, рядом со списками погибших на войне. Газеты пытались услужить общественному вкусу. Телевидение тоже. В те редкие часы, пока работал телевизор, показывали мужчину с глазами совы, который проводил с экрана телепатический сеанс, вылечивал рак и заживлял раны. Другой, тоже взглядом, заряжал воду положительным зарядом. Мои соседи выстраивали перед телевизором батареи бутылок и лечились от всего.
Людям обязательно нужно верить во что-то, что невозможно понять.
А я не хотел. То, что происходило с моей оперой, не поддавалось объяснению, но я не искал в этом мистики. Я понимал, что совпадение, произошедшее дважды, едва ли может быть случайным. И почему именно сейчас все началось, когда у меня уже полно героев? Я пытался докопаться до причины, но знал, что не смогу остановить работу над оперой, даже если ничего не пойму. Недописанные арии звучали в моей голове. Голоса мертвецов срывались на верхних нотах. Смешно сказать, но мои герои были для меня живыми людьми, и я не мог заставить их замолчать.
Я размышлял над оперой, отвлекаясь на каждодневные похороны и панихиды. Я активно участвовал в жизни двора. Никто не работал, некоторые только подрабатывали, и жизнь, зажатая между двумя восьмиэтажками, бурлила.
Однажды утром обворовали полковника. Он ходил на базар продавать бутылки, за ним, видно, следили. Васо сидел во дворе и видел трех незнакомцев в подъезде. Но он побоялся спросить их, кто они и к кому.
Полковник еще не вернулся, но соседи вошли в его квартиру, увидев распахнутую дверь. Объясняли друг другу: а я подумал, может, человеку плохо, дай, посмотрю. Аннушка, держа грудь на подносе, рассматривала афганские фотографии. Старые девы бросили хлебную очередь и сидели по две на стульях. Худой историк явился вместе с толстой женой. Никто не поздоровался с ними, кроме маленькой Анны, внучки Аннушки. Они надоели всем со своими политическими дебатами. Каждый раз заводили их во дворе и отвлекали старых дев от грез.
Полковник пришел наконец, разорался и всех выгнал. Участковый боялся войти к нему и позвал Эстатэ. Эстатэ взял меня. Полковник в нашем дворе общался только с Эстатэ. Их объединяло чувство вины перед человечеством.
Участковому надо было заполнить бумаги, но надежды на то, что кого-то найдут, не было. Васо не хотел давать показания. Он боялся за дочь, «девушку на выданье», как он называл свою старую деву. Полковник ходил по квартире в трусах, не красных из принципа, и повторял, что ему ничего не нужно, кроме именного пистолета. И я вспомнил, как видел его с пистолетом у виска во время землетрясения.
Эстатэ пытался объяснить полковнику, что надо дать полицейскому взятку, а то он не пошевелится. У Эстатэ не хватало русских слов. Участковый понимал и по-русски, и по-грузински, но в разговор не встревал. Он ждал. Полковник вдруг отвлекся и пожаловался участковому, что голуби какают на его помидоры. Художник с восьмого этажа, педик, прикармливает голубей, а они срут.
Мы с Эстатэ заторопились. Мы шли на похороны, как всегда. Полковник отвел меня в сторону и сказал, не глядя в глаза: «ты там поговори с ребятами, если кто пошутить захотел. Я же боевой офицер, мне этот пистолет генерал вручал». Мне даже не было обидно, что полковник считает меня вором или другом воров. Кто знает, что бы я делал на его месте. Полковнику без пистолета было как Че Геваре без революции – ни жить, ни умереть.
Мы с Эстатэ вышли. Мы уже спускались по лестнице, когда нас тряхнуло. Сильно, я даже ударился об стенку плечом.
Двери захлопали, ноги застучали. Крик, визг детей. Мы бежали, натыкаясь друг на друга, и кто-то бежал за нами, и толкал в спину, и кричал. Участковый расшвыривал всех на своем пути. И потом, когда мы стояли в толпе, в прямоугольнике между двумя восьмиэтажками и моим маленьким домом, нас тряхнуло еще раз, и еще.
И мне показалось, что дерево, торчавшее из крыши, как труба, накренилось и готово упасть.
И я подумал об опере. И я испугался почему-то, что не успею ее дописать. Предчувствие, как запах фиалок, едва уловимый…
Но я отказывался этому верить…
• • •
– Здравствуйте, батоно Бог!
– Я не Бог, я сотрудник третьего отдела.
– Я так и знал, что Страшный суд будет на грузинском языке.
– Какой суд, о чем вы говорите? Вам же все толково объяснили во втором отделе. Все члены Чрезвычайной комиссии говорят на языках зоны военного конфликта.
– А писать вы тоже умеете?
– Пожалуйста, не задавайте вопросов. Переходите к последнему дню.
– Но я должен объяснить вам, как мы к этому пришли, рассудите сами…
– Никто не собирается вас судить. Это вы там, на земле, все время друг друга судите, как вам не надоест? Изложите факты, и я передам ваше дело в четвертый отдел.
– Я давно говорил, что плохо кончится, доведут нас эти коммунисты…
– Не отвлекайтесь, повешенный!
– То, что происходит сейчас в Грузии, – трагедия древнейшего народа.
– Начните с момента, как вы нашли веревку.
– Нам не выдавали зарплату шесть месяцев. Я продал машину, положил деньги в банк, а банк лопнул. Мы с женой пили чай без сахара по утрам, а в обед варили картошку. Без ужина. Я пил воду перед сном, чтоб живот не бурчал. Разве это жизнь?
– Не задавайте вопросов!
– Потом она завела – поедем в Турцию! У нее были какие-то золотые безделушки. Говорит, поедем, купим продукты. Вот, послушался женщину…
– Дальше!
– До чего довели – я университет окончил, а теперь с сумками на базаре, как спекулянт. Там уже полно наших людей. Даже надписи в магазинах по-грузински, что почем. Мы зашли в магазинчик – грязный, темный, а все есть. У нас денег не хватило. Я не мужчина, раз не могу семью содержать, я ее домой довез, и все.
– Почему вы не рассказываете, что ваша жена пошла с продавцом на склад и они там договорились о цене? А вы делали вид, что ничего не понимаете…
– Я не желаю об этом говорить!
– Странные вы люди, как же Чрезвычайная комиссия разберется, если вы не скажете всю правду?
– Никто не поймет, что такое война.
– Это не война, а военный конфликт.
– Если людям жить невозможно, значит, это война.
• • •
События на морском побережье разворачивались не в нашу пользу. Мы проигрывали войну, хотя были в большинстве. Если, конечно, в гражданской войне могут быть проигравшие и выигравшие, если не все мы – в говне.
Нанули возила меня на море, когда я был маленьким. Мы выходили на пляж с рассветом. Расставляли ноги на камнях. Упирали глаза в небо. И полоскали горло морской водой. Все приходили на берег с огромными сумками. Расстилали одеяла. Раскладывали помидоры и вареную кукурузу. Запускали детей пописать в море. Дети визжали от холодной воды.
Павлины кричали голосом Аннушки.
В сухумский обезьяний питомник выстраивалась длинная очередь. Экскурсовод пересчитывал нас, маша пальцем. Обезьяны, кажется, уже меня узнавали. Нанули водила меня в питомник каждый год. Обезьяны и впрямь были, как люди, – один обезьяна-мужчина умер от инфаркта миокарда, когда ему изменила «жена».
Теперь обезьяны были даже умней, чем мы, – они не убивали. Они разбежались по окрестностям, когда электричество пропало. Ток низкой частоты проходил по ограде, и они сразу поняли, что подача прекратилась. Беженцы рассказывали, что видели обезьян на деревьях в городских скверах, как на рисунках в школьных учебниках.
Жители, оставшиеся в домах, своих или чужих, прятались в подвалах. Ели жесткое павлинье мясо. Подплывал катер и давал по берегу залп. Пролетал самолет, без знаков, и сбрасывал бомбы. Пехота бросалась в атаку, бухая сапогами. На головах у солдат – разноцветные ленты. Из подвальных окон видны только сапоги.
Война становилась затяжной.
В это время в Тбилиси подходил к концу чемпионат республики по футболу. Худой историк и его толстая жена организовали поход соседей на матч. Они утверждали, что чемпионат является важным политическим событием. Он доказывает, что мы самостоятельная страна. Мы пошли потому, что нам все равно нечего было делать.
Эстатэ захотел сидеть вместе с женщинами. «До чего дожили, – сокрушался Васо, – теперь и женщины на футбол ходят!» Хотя Эстатэ от этого не страдал. Он рассказывал про Горбачева и про ламбаду, и женщины расстегивали кофточки. И вскидывали руки, демонстрируя сизые лица у себя под мышками.
Я вспомнил, как на хорошей игре болельщики сидели даже на лестницах. Одни мужчины. Дым над головами. Если судья назначал пенальти в наши ворота, мы скандировали: «Су-дья – пе-де-раст!» Разбег. Удар. Го-о-ол!
Мери, дочка Васо, села со мной рядом. Очень близко, как будто мы не помещались на полупустой трибуне. Я не хотел пересаживаться, потому что не хотел ее обижать. Я все понимаю. Мери, как и мне, двадцать девять лет. И никакого секса. Никогда. Я опустил голову и смотрел на ее ноги, точнее, на ступни. Меня всегда поражали ступни Мери. Как лыжи.
Я думал об опере. Я постоянно думал об опере. Я впервые пишу серьезную вещь. У меня есть несколько пьес для фортепиано и одна симфоническая поэма, которая сейчас мне уже не нравится. Я написал ее в двадцать лет, когда был влюблен в Жужуну. Жужуна была самой красивой девушкой на нашем курсе.
Потом она вышла замуж, и мне показалось, что я больше не полюблю никогда. Я выразил себя в музыке. Жужуна родила ребенка, пополнела и развелась. Я держу ее в объятиях почти каждую ночь, в гробовой тишине. Жужуна живет с родителями и сыном. Я накрываю ее крик, павлиний, подушкой, чтобы оргазм не вышвырнул в окно ее честь.
И я больше не пишу симфонических поэм.
Эстатэ иногда говорит со мной о Жужуне. Наверное, по просьбе Нанули. Он начинает так: «Я знаю, что ты любишь Ию. Но ведь ее не вернешь». Виноватое выражение появляется на его лице. Я знаю, как Эстатэ мучится из-за смерти Ии. Я говорю о Жужуне: «Старые любовницы – как дряхлые лошади. И ездить нельзя, и расстаться жалко!»
Никто не виноват в смерти Ии больше, чем я.
Футболисты нехотя бегали, а болельщики нехотя покрикивали. Кажется, мы забили мяч в свои ворота, я не заметил. Я думал о том, что действие в моей опере приближается к кульминации – в небесном кабинете появляется женщина небесной красоты.
Я должен описать тебя, Ия, но я не нахожу в себе сил.
• • •
Некоторые люди вдруг разбогатели во время войны. Они проносились по грязным улицам на блестящих машинах. Оставляли всех в пыли. Они победили в битве за хлеб, вырвав у собратьев кусок хлеба. Они взлетели над бедностью, и на них смотрели с восхищением, как на розовых голубей.
Я видел их иногда на похоронах. Они приходили с охраной. Вручали родственникам покойного крупные суммы. Их лица светились добротой и счастьем. Удовлетворенностью обедом. Люди, убитые горем, возвращались к жизни. Вскакивали со своих мест в знак уважения. Были готовы извиниться за то, что покойник лежит.
Кто-то становился нуворишем, а кто-то умирал на берегу моря. А кто-то скатывался до нищеты.
Полицейский поймал на базаре вора, мальчишку. Он тащил его за руку к выходу, а пацан упирался. Продавцы хохотали у своих синюшных поросят. У своих неточных весов. А мальчишка упал на землю, задергал ногами, и у него горлом хлынула кровь.
Самый высокий в Грузии человек продал свой скелет медицинскому институту, а деньги пропил.
Мои соседи выносили кастрюльки на общий костер посреди двора и помешивали еду, выбегая на минуточку из хлебной очереди. Они обсуждали поездку в Турцию. До Турции можно было доехать за день. И накупить товару по дешевке. Эстатэ достал микроавтобус с шофером.
И они поехали.
Ничто не кольнуло меня в сердце. Я не провел никаких параллелей. Я забыл, что только выписал в опере героя, который, вернувшись из Турции…
Худой историк поехал с толстой женой. Аннушка без маленькой Анны. Художник с восьмого этажа с другом, которого за глаза называли «любовником». Васо с дочкой Мери. Несколько старых дев. И Эстатэ.
Нанули не поехала, потому что еще не вернулась из деревни. Полковник не поехал из принципа. Или, может, проспал с похмелья. А я дал Аннушке денег на колбасу и остался. Похорон было полно.
Уже ввели комендантский час, и патруль мог стрелять без предупреждения. Я сидел по вечерам дома, в темноте. Я нанес Жужуне дневной визит. Ее родители смотрели на меня, будто я только свалился с балкона, прямо на их глазах. Будто я не делаю этого почти каждую ночь.
Я хотел сказать Жужуне, что не люблю ее. Что мне лучше не приходить ни днем, ни ночью. Что я никогда не полюблю ее, ни-ко-гда! Что мне не вырвать Ию из сердца, потому что сердце мое захлебнется в крови.
Но я боялся смотреть в амбразуры, словно оттуда могут вылететь пули. Я пожаловался на патруль и на жару. На то, что вижу покойников почти каждый день. Я выпил чай без сахара и ушел. И не пристрелил дряхлую лошадь, нашу связь.
Когда Жужуна услышит мою оперу, она сама все поймет.
Я слонялся по городу и месил грязь. Женщины в цветастых юбках не подметали больше улиц баба-ягинскими метлами. И общественные туалеты закрыли, потому что никто не хотел их убирать. Мужчины и собаки отмечались в темных подворотнях, а кто стеснялся – мучился.
Но по-прежнему существовала странная, ничем не объяснимая брезгливость людей, живущих в городе без воды. Никто не садился на скамейку на улице, не подстелив газеты. Люди собирали воду по каплям. Кипятили часами. И вываривали носовые платки. Очень стыдно было не иметь чистого носового платка.
Платком вытирали ножи и вилки, прежде чем приступить к еде. Платком вытирали фрукты, если не могли их помыть. Платок доставали из кармана, встряхивали и вытирали слезы, если приходилось всплакнуть на похоронах.
Через несколько дней одиночества я загрустил. Я играл часами в бабкиной квартире. Полковник пришел послушать и заснул, и чуть не упал со стула. Я разбудил его, а он заплакал. Выдал мне классическую арию старого вояки: «Я за Родину кровь проливал, а они меня забыли. Говорят, что я зря воевал. Я – солдат, мне как приказали…» И заснул опять.
Я ждал соседей так, как в детстве ждал отца.
И они вернулись. Все.
Они были довольны поездкой, особенно Васо. Шофер микроавтобуса влюбился в Мери и уже сообщил Васо, что намерения его серьезны. Мери ходила в новом платье и новых длинных туфлях и улыбалась. Ею восхищались – вот молодчина, не шлялась по сторонам, сидела дома и дождалась! Старые девы завидовали глубоко и потому поздравляли от души.
И все были так взбудоражены, что не могли заснуть. Бегали по этажам со свечками в руках и обсуждали новости, и показывали покупки, и ойкали, если воск капал на пальцы.
А на следующее утро умер худой историк.
Его толстая жена распустила волосы, царапала себе лицо и кричала. Аннушка обнимала ее за плечи и рыдала. Старые девы подметали двор и молчали. Эстатэ пошел с Васо доставать гроб, а меня оставил с женщинами, если вдруг что понадобится.
Я стоял у стены и смотрел на тело, накрытое с головой белой простыней. Маленькая Анна пыталась завесить зеркало черной материей, но не доставала. И тянулась опять, и оглядывалась на покойника, и боялась. Жена историка перестала кричать и только охала. Аннушка уговаривала ее поесть – до похорон, мол, выдохнешься, подкрепись.
И жена историка сказала почти шепотом: «Он повесился!»
Она могла бы этого и не говорить.
• • •
«Одевайся», – сказал я Ии. И отвернулся к окну. Ее груди обозначились на теле, когда она присела в постели. Маленькие груди балерины.
«И пальто?» – спросила Ия.
Она стояла в легком платье, не по сезону – был март, – и мужских ботинках. Без чулок.
«И пальто», – сказал я.
Мы вышли на улицу. Март, сумасшедший, не принес весну. Мы уже доели все консервы, запасенные на зиму, и сожгли все дрова. Но фиалки, фиолетовые, не вспыхнули на углах улиц, как маяки. Мы шли с Ией и наступали на лужи. Ее волосы, рыжие, развевались на ветру. Я касался их пальцами, я касался их лицом. Запах фиалок, едва уловимый, исходил от этих волос.
Я вел Ию за руку, как она когда-то – своего отца. Я еще не знал, что люблю ее. Я только встретил ее, впервые после нашего детства.
Легковые машины, редкие, с черным грузом на крыше, обгоняли нас, обдавая грязью. Серые голуби летали низко в сером небе.
«Тебе холодно?» – спросил я Ию.
«Нет», – сказала она.
Мы вошли в наш двор, стиснутый между двумя восьмиэтажками и моим домом, и не встретили никого. Мы побежали по лестнице в квартиру бабки – я хотел сыграть для Ии – и останавливались на этажах, и целовались. Мы вбежали, и толчок, подземный, мощный, швырнул Ию в мои объятия. И я сжал ее, как букет фиалок, и закружил.
Мы танцевали и смеялись, а люстра звенела, как арфа. Стулья ехали по полу – смычковые. Тарелки шлепались со стола – ударные. Мы танцевали под музыку оркестра, и я прижимал к себе Ию, и кружил, кружил.
Нас бросило к окну, и я увидел, что дома наши будто тянутся к поцелую, верхними этажами. И напротив, в изогнувшемся доме, я увидел полковника, с пистолетом в руке. А потом дома откинулись друг от друга, словно люди после поцелуя. И я замер и посмотрел Ии в глаза – неужели это любовь? И она замерла с вопросом в глазах – любовь? И мы закружились опять.
Ее тело белело в темной комнате ночью, в рыжих бликах костра. Костер горел под нашими окнами – соседи вышли во двор, боясь нового толчка. Но толчки уже затихали или мы просто перестали их замечать. И Ия рассказывала мне, как жила, а я дрожал, как от холода, и, наверное, плакал.
Она рассказала мне, как ее изнасиловал школьный учитель в четырнадцать лет. Оставил после уроков в классе, запер дверь. И она забеременела и больше не могла танцевать. И никто не взялся за аборт, потому что ей нечем было платить. А ребенок родился мертвым.
А потом, однажды, ее отец, сумасшедший, вышел из дома и не вернулся.
И я тоже рассказал Ии, как ждал отца. И я сказал Ии то, чего не говорил никому, – что я устал от войны.
И мы решили, что больше не расстанемся, до самой смерти. Что она утром перенесет ко мне свои вещи и останется навсегда.
И мы договорились встретиться около церкви, где я пою. Через час.
Я еще не сказал Ии, что хочу жениться на ней, через час.
Я задумал, что если она придет во вчерашнем платье, значит, она согласится.
И я так торопился, что пошел напрямик через кладбище знаменитостей. Снег лежал на могилах, и я увязал по колено. Я протоптал дорожку, по которой прошел потом Эстатэ с ружьем. Я кружил вокруг церкви, еще неоткрытой, и ждал. Я целую вечность провел там один, а потом появился Эстатэ, и я сказал ему, что сегодня женюсь.
И пришел поп и открыл церковь. Я увидел небеса, синие, нарисованные на сводах, в открытую дверь. Я представил, как введу в церковь Ию. Я не хочу никаких церемоний. Я не верю ни в Бога, ни в попа. Над нами есть только небеса.
И тут ворон, черный, сел на церковный крест. Поп выбежал, путаясь в рясе, и замахал руками, и зашикал. За ним бежали бабы-фанатички и тоже, путаясь в длинных юбках, махали руками и галдели.
Ворон смотрел на них сверху, не шелохнувшись.
И поп сказал Эстатэ: «Сделай что-нибудь, нельзя, чтобы ворон сидел на кресте».
И Эстатэ пошел домой, через кладбище знаменитостей, и принес ружье. Ружье тяжелое и местами ржавое.
И пришла Ия. В том же платье, что и вчера.
Мне показалось, что я взлетел. Я запомнил все, что случилось в церковном дворе, будто смотрел с высоты. Будто это я, а не ворон, сидел на церковном кресте.
Эстатэ прикладывает ружье к плечу. Поп крестится. Эстатэ стреляет. Пуля попадает в крест, рикошетит и убивает Ию. Эстатэ потирает плечо. Поп бежит назад, к церкви, и запирает за собой дверь. Бабы-фанатички в окнах – как иконы. Я стою посреди двора со звоном в ушах, и Ия на земле – в луже крови.
• • •
В небесном кабинете появляется женщина небесной красоты. Ее волосы – как пламя. Ее тело, голое, – зажженная свеча. Она танцует одна, но партнер вот-вот вырвется на сцену и не выпустит ее из объятий, никогда.
• • •
– Меня зовут Баадур Д.
– Да-да, у меня есть ваше дело. Вы прослушали инструкцию во втором отделе?
– Я знаю инструкцию, я сам ее сочинил.
– А, ну да. Приступайте.
– Я задумал написать что-то в стиле французской «оперы спасения», знаете, в ней сближаются лирическая трагедия и комическая опера… И я хотел также добавить элементы балета… Вы знакомы с французской музыкой?
– Нет, это не входило в нашу подготовку. Я слышал только одну французскую мелодию – «Марсельезу». Напевал здесь какой-то старик. Вообще-то я должен вам напомнить – вы не имеете права задавать вопросы. И не отвлекайтесь.
– …однако странные вещи стали происходить с моей оперой. Как будто музыка вырвалась из моего подчинения. И тогда я ввел в оперу образ женщины, что я любил, и последовал за ней…
– Кого вы любили? Проститутку Ию?
– Прошу вас…
– Я не понимаю, как вы сюда попали. К нам поступают только жертвы военного конфликта, умершие насильственной смертью. А вы…
– Меня деревом задавило во время землетрясения.
– Нечего было держать дерево в доме! Я передам ваше дело в четвертый отдел, пусть они разбираются. А в седьмом отделе вам сотрут память и…
– Я знаю.
• • •
«Сегодня после первого урока произошло сильное землетрясение. Мы все выбежали во двор, и никого не убило. Нас пересчитали, и мы все здесь. Директор нашей школы, Маро, не разрешила нам идти домой, пока за нами не придут. Я жду бабушку Аннушку и пишу дневник. Идет дождь.
Я люблю Баадура Д., который живет в нашем дворе. В его доме растет дерево, прямо посредине. Он умеет играть на пианино. Я тоже хочу ходить в музыкальную школу, но у нас нет денег. Бабушка Аннушка говорит, что Баадур не “жилец”. Он пишет музыку, а это сейчас никому не нужно. Когда я вырасту большая, я выйду замуж за Баадура Д.
Сегодня я увижу его».Ɔ.