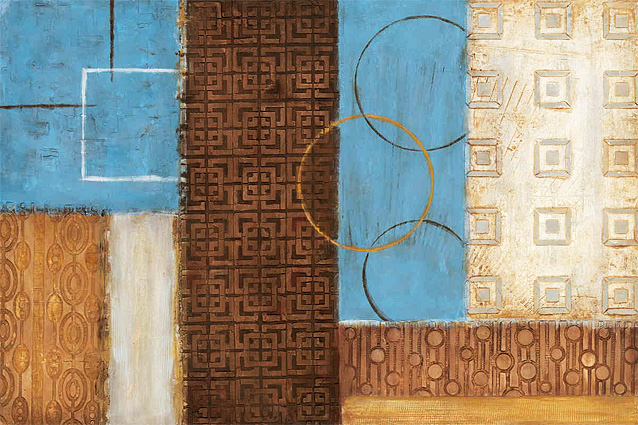Сатанинское танго
Перевод с венгерского Вячеслава Середы
В один из последних дней октября, на рассвете, еще до того, как на западной стороне поселка на потрескавшийся солончак падут первые капли немилосердно долгих осенних дождей (и до самых заморозков море зловонной грязи зальет все дороги, отрезав поселок от города), Футаки пробудился от колокольного звона. В четырех километрах к юго-западу от поселка, в бывшем владенье Хохмайса, стояла заброшенная часовня, но там не то что колокола не осталось, но и сама колокольня была разрушена еще во время войны, ну а город слишком далеко, чтобы оттуда хоть что-нибудь было слышно. И вообще, торжествующий этот гул вовсе не походил на отдаленный звон; казалось, ветер подхватывал его где-то рядом («Вроде как с мельницы...»). Привстав на локте, он всмотрелся в крохотное, как мышиный лаз, оконце кухни, но за полузапотевшим стеклом поселок, омываемый утренней синевой и замирающим колокольным звоном, был нем и недвижен; на противоположной стороне улицы, в далеко отстоящих один от другого домах, свет пробивался только из занавешенного окна доктора, да и то потому лишь, что вот уже много лет он не мог заснуть в темноте. Футаки затаил дыхание, чтобы в отливной волне колокольного звона не упустить ни единой выпавшей из потока ноты, ибо хотел разобраться в происходящем («Ты, никак, еще спишь, Футаки...»), и потому ему важен был каждый, пусть даже самый сиротливый звук. Своей известной кошачьей походкой он бесшумно проковылял по ледяному каменному полу кухни к окну и, распахнув створки («Да неужто никто не проснулся? Неужто никто не слышит, кроме меня?»), высунулся наружу. Лицо обдал едкий, промозглый воздух, и ему пришлось ненадолго закрыть глаза; но тщетно он вслушивался в тишину, которая от петушиного крика, отдаленного лая собак и от завывания налетевшего несколько минут назад резкого беспощадного ветра делалась только глубже, он ничего не слышал, кроме собственного глухого сердцебиения, будто все это было лишь наваждением полусна, какой-то игрой, будто просто «кто-то меня напугать решил». Он тоскливо взирал на зловещее небо, на обуглившиеся ошметки лета, не доеденные прожорливой саранчой, и вдруг, присмотревшись к ветке акации за окном, увидал, как следуют чередой друг за другом весна, лето, осень, зима, как будто в застывшем кристалле вечности выкидывало свои фортеля само время, прочерчивая сквозь сутолоку хаоса дьявольские прямые, творя иллюзию высоты и выдавая блажь за неотвратимость... и увидал себя, распятого меж колыбелью и гробом, мучительно дернувшегося в последней дороге, чтобы затем, по чьему-то сухому трескучему приговору, в чем мать родила — без знаков различия и наград, — быть переданным мойщикам трупов, хохочущим живодерам, в чьих расторопных руках он уж точно познает меру дел человеческих, познает ее окончательно и бесповоротно, ибо он к тому времени уже убедится, что всю жизнь играл с шулерами в игру с заранее известным исходом, под конец которой он лишится последнего средства защиты — надежды когда-нибудь обрести дом. Повернув голову на восток, к строениям, когда-то шумным и полным жизни, теперь же пустынным и обветшалым, он с горечью наблюдал, как первые лучи раздутого красного солнца пробиваются сквозь стропила полуразрушенной, с ободранной крышей, фермы. «Надо решаться, в конце концов. Нельзя мне тут оставаться». Он снова забрался под теплое одеяло и подложил руку под голову, но не смог сомкнуть глаз: этот призрачный колокольный звон напугал его, но еще больше пугала внезапная тишина, угрожающее безмолвие, потому что он чувствовал, что в эту минуту может произойти что угодно. Но ничто вокруг не пошевелилось, он и сам лежал на кровати не шевелясь, пока между молчаливыми до сих пор окружающими предметами не завязался встревоженный разговор (скрипнул дверцей буфет, громыхнула кастрюля, скользнула на место фарфоровая тарелка), и тогда, неожиданно повернувшись в постели, он отпрянул от пахнувшей потом госпожи Шмидт, нашарил рукой приготовленный на ночь стакан с водой и залпом осушил его. Это освободило его от детских страхов; он вздохнул, отер взмокший лоб и, зная, что Шмидт и Кранер в Соленой Пади еще только сбивают скот в стадо, чтобы затем отогнать его в расположенное к северу от поселка хозяйство, где они наконец-то получат деньги за тяжкие восьмимесячные труды, после чего пустятся в обратный путь, который займет у них добрых пару часов, он решил, что можно еще вздремнуть. Футаки смежил глаза, повернулся на бок, обнял женщину и почти уже задремал, когда снова услышал звон колокола. «Что за черт!» — откинул он одеяло, но едва его голые шишковатые стопы коснулись холодного пола, звук опять прекратился («Будто знак кто-то подает...»). Сгорбившись и сцепив на коленях руки, он сидел на краю кровати; его взгляд упал на пустой стакан, у него пересохло в горле, ныла правая нога, и он уже не решался ни встать, ни забраться назад в постель. «Завтра же и уйду». Он окинул глазами еще в целом пригодную к делу утварь убогой кухни — плиту, заляпанную пятнами жира и пригоревшей пищи, заброшенную под плиту кошелку с оторванной ручкой, колченогий стол, запылившиеся иконки, висящие на стене, горшки и кастрюли, сваленные в углу у двери; наконец, он повернулся к уже прояснившемуся окошку, увидел за ним голые ветви акации, дом Халичей с провалившейся крышей и кривой трубой, из которой шел дым, и сказал себе: «Заберу свою долю, и прощевайте! Сегодня же вечером!.. В крайнем случае — завтра! С утра!» — «О боже!» — вскрикнула рядом с ним госпожа Шмидт; она в ужасе озиралась по сторонам, грудь ее тяжело вздымалась, но когда поняла, что из мрака на нее глядят знакомые вещи, то облегченно вздохнула и откинулась на подушку. «Что, приснилось чего?» — спросил Футаки. Госпожа Шмидт, все так же испуганно, уставилась в потолок. «Не приведи господь! — вздохнула опять она и положила руку себе на сердце. — Чтоб такое!.. Ты только представь себе... Сижу в комнате, и вдруг... стук в окно. Я, конечно, открыть его не посмела, просто стала у занавески и выглянула украдкой. Но увидела только спину, потому что он дергал уже ручку двери... И рот видела, который что-то кричал... но понять ничего было невозможно... Рожа у мужика небритая, а глаза будто бы из стекла... Чистый кошмар... А я еще спохватилась, что дверь вечером на один всего оборот заперла и что, пока доберусь до нее, будет поздно... поэтому быстро захлопнула дверь на кухню, но потом поняла, что от нее у меня нет ключа. И стала было кричать, но так и не выдавила из себя ни звука. А потом... я не помню... с чего, почему... в окно неожиданно заглянула Халич — заглядывает и смеется... ну, ты знаешь эту ее ухмылочку... в общем, она заглянула на кухню... потом вдруг пропала... а мужик тот уже ногами колотит в дверь, еще секунда, и он ее высадит, и я вспомнила тут про хлебный нож, метнулась к буфету, но ящик заклинило, я его дергаю, умирая от ужаса... потом слышу, бах, дверь повалилась, и он уж по коридору топает... а ящик, хоть тресни, не поддается... мужик тот уже в дверях стоит... я наконец открываю ящик, хватаю нож, он размахивается, кидается на меня... и не знаю, как это вышло... только вижу, он уж лежит в углу, под окном... да, при нем еще были кастрюльки, синие, красные... все они разлетелись по кухне... а потом я почувствовала, как под ногами двинулся пол, представляешь, вся кухня куда-то поехала, будто автомобиль... а что было дальше, не помню...» — закончила она и с облегчением рассмеялась. «Ну мы с тобой хороши! — покачал Футаки головой. — А я, представляешь, проснулся от колокольного звона...» — «От звона?! — изумленно выпучилась она. — Да откуда здесь колокол?!» — «И сам не пойму. Причем дважды звонили, подряд...» Тут уже головой закачала госпожа Шмидт: «Так и сбрендить недолго». — «Или, может, мне это тоже приснилось, — проворчал растревоженный Футаки. — Помяни мое слово, сегодня что-то стрясется...» Она рассерженно повернулась к нему спиной: «Ты вечно так говоришь, неужто не надоело?» И тут вдруг они услыхали, как заскрипела садовая калитка. И в страхе переглянулись. «Это он! — прошептала госпожа Шмидт. — Я чувствую». Футаки нервно сел: «Как же так... не может такого быть! Они еще не могли вернуться...» — «Да почем мне знать!.. Шевелись!» Он выскочил из постели, подхватил одежду и, затворив за собой дверь горницы, быстро оделся. «Палка, черт побери. Я оставил там свою палку». Горницей Шмидты не пользовались с самой весны. Сначала зеленая плесень покрыла стены, затем в платяном шкафу, дряхлом, но регулярно начисто протираемом, заплесневели одежда, полотенца и все постельные принадлежности, а еще через пару недель поржавели приберегаемые для особых случаев столовые приборы, расшатались ножки покрытого кружевными салфетками большого обеденного стола, а когда пожелтели оконные занавески и в один прекрасный день отключился свет, хозяева окончательно перебрались на кухню, оставив горницу во власти пауков и мышей, с которыми все равно не могли ничего поделать. Прислонившись к дверному косяку, Футаки стал размышлять, как ему незаметно отсюда выбраться. Но положение выглядело достаточно безнадежным — улизнуть он мог только через кухню.