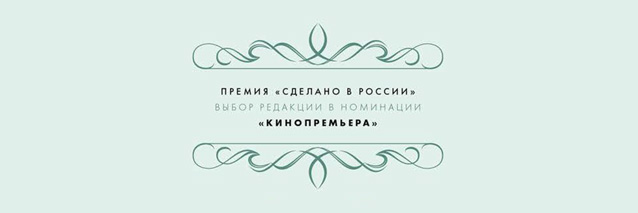Михаил Местецкий: Когда мне предлагают «серьезные щи», я их не ем
Ɔ. Зачем вы пошли в полный метр? Признайтесь, не давал покоя режиссерский статус вашей супруги Нигины Сайфуллаевой? Или хотели протащить «Шкловского» в саундтрек? Или не могли больше спокойно смотреть на то, что режиссеры вытворяют с вашими сценариями?
На самом деле это очень нетривиальный вопрос: что вообще может стать мотивом погружаться в тот кошмар, который называется «кинорежиссура»? Потому что съемки «Тряпичного союза» – это было самое стрессовое, самое сложное дело в моей жизни. Чудовищный по напряжению период.
Ɔ. Ничего из перечисленного на основной мотив не тянет?
Этого точно маловато. Хотя с моей женой, вы правы, зевать нельзя, она скоро и группу свою, я так чувствую, может собрать. Мы, кстати, познакомились, когда она работала хлопушкой на одной моей короткометражке. А потом, пока я занимался «Тряпичным союзом», успела и отучиться, и снять свой полный метр. Но, если серьезно, главный мотив у меня был все-таки другой. Я отчетливо сознавал, что то, о чем я хочу снять кино, ну просто никого, кроме меня, не интересует. Этот сюжет либо спрямят, сделав из него такую дубинку без сучков, либо вообще не будут за него браться, потому что этот фильм, несмотря на то что я пытался придать ему спектакулярную, динамичную форму, на самом деле о вещах не кинематографичных. Сам материал, сами эти художники без цели, которые идут туда, не знаю куда, – для драматургии полный кошмар. Нормальный сценарист отправит все это в корзину. Но эта история произошла со мной и для меня много значит, я чувствовал, что если я ее не расскажу, то она просто уйдет в небытие. Несмотря на то что группа «Радек», которая была прообразом «Тряпичного союза», в своем роде достаточно известна, по крайней мере для историков искусства, все равно все самое интересное, тонкое, смешное, странное не было задокументировано и могло исчезнуть навсегда.
Ɔ. А вы до конца понимали, на что себя обрекаете?
Вообще режиссура – это постоянная бомбардировка тебя форс-мажорами. Особенно на первых проектах. Часть форс-мажоров опытными режиссерами уже изначально закладывается, а в начале пути ты о них не подозреваешь. Ты подготовился, как хороший ученик, все раскадровал, а потом приезжаешь на локацию, а вместо солнца у тебя дождь, вместо лета – самый холодный сентябрь за сто лет, и посреди съемочного процесса – как у нас было – начинается снег. Не говоря уже о мелочах: у человека вскочил фурункул на лице, а ему в кадр, кто-то опаздывает, кто-то постоянно болеет. В результате, когда я приехал со съемок, у меня было ощущение, что я солдат потерянного поколения, вернулся с Первой мировой войны, как герой какого-нибудь Хемингуэя. И свой жуткий опыт я не могу здесь ни с кем разделить. Никому до него нет дела. И ты искренне понимаешь, что никогда с этими людьми не сможешь объединиться, потому что они беззаботно жили, пока ты ползал на своих костях по каким-то окопам.
Ɔ. Вы говорили, что назвали свою группу в честь Виктора Шкловского, чтобы всегда помнить, как опасно хвататься за все сразу. Режиссура – это еще одно такое «хватание»?
Я мечтаю достичь такого состояния, когда у меня не будет чувства, что я делаю разные дела. Это будет единая творческая деятельность. Вообще ощущение каких-то метаний возникает только оттого, что ты в каждом новом деле неофит. Я потихоньку учусь, начинаю чувствовать себя профессионалом в разных сферах. И кино в этом смысле – великая вещь, потому что это синкретическое искусство. Я, например, люблю рисовать, но всегда понимал, что не буду художником, и страдал от этого. А тут раскадровки. Это такой кайф! Я абсолютно реализовал свою тягу к рисованию. И рисую порой гораздо более тщательно, чем это требуется. Потом музыка. Для фильма же нужна музыка, значит, надо ее написать. Самому. Потому что кто еще напишет? Шостакович уже умер. И так далее.
Ɔ. А вы не пробовали себя анализировать? Откуда вообще эта тяга браться за разные вещи?
Шизоидный тип. Под конец университета я начал очень строго себя структурировать. Например, тогда я на многие годы забросил музыку. В тот момент я мечтал посвятить себя кабинетному труду – литературе, филологии. Меня интересовало только это. Я закрылся, забаррикадировался – и угодил в итоге в психбольницу. Неожиданно выяснилось, что, похоже, я не создан проводить все время в кабинете. Хотя именно это я больше всего всегда уважал. У меня папа – профессор, мне этот образ ученого или писателя, который с утра до вечера работает за столом, ужасно нравился. Но я понял, что не могу, я просто начинаю сходить с ума. И у меня появился страх вообще ничего в жизни не сделать. Тогда я начал работать с психологом, и он сказал: «Перестань ставить заборы, занимайся этим, занимайся тем, пробуй, будь свободнее». И как-то я ожил. Единственное, о чем жалею, что не удастся мне больше заниматься литературой. Профессиональная деформация сценариста сделала это невозможным.
Ɔ. Странно... Вроде бы близкие области.
Нет! Сценарист – это контузия. Условно говоря, он не выносит деепричастных оборотов. Он настолько понимает цену каждого слова, каждой секунды своего текста… Поэтому сценарии пишутся абсолютно телеграфным стилем. И в этом смысле я понял, что к литературе уже возврата нет.
Ɔ. А к музыке?
После окончания «Тряпичного союза», где, кстати, было полно музыки «Шкловского», мы бешено записываемся, снимаем два клипа, так что, думаю, осенью будет «Шкловский» revival. Будем ездить, будут концерты. Просто в последние годы мы от всего отказывались, поскольку «Тряпсоюз» забирал все время. А с весны чуть вздохнул, и «Шкловский» сейчас – это приоритет.
Ɔ. «Хороший мальчик» – это был ваш последний сценарий?
Тут такая история. Еще до запуска «Тряпичного союза» мы с моим другом Ромой Кантором написали еще один сценарий. Не коммерческий, но при этом и не маргинально артхаусный. Живое авторское кино. Мы хотели сделать такой «Осенний марафон» для детей, фильм про рождение интеллигентного человека в возрасте четырнадцати лет, комедийный, с отсылками к «Добро пожаловать…». В итоге у меня на руках было два сценария – «Хороший мальчик» и «Тряпичный союз», но снимать я должен был «Мальчика». И тут я на беду встретил режиссера Сергея Лобана, моего кумира и друга. Он прочитал оба сценария и сказал, что надо делать «Тряпичный союз». Я мямлил, что собирался заняться «Союзом» как-нибудь потом. А он мне говорит: «Ты что, бессмертный? С чего ты взял, что у тебя вообще будет это “потом”?» И в этот момент появился продюсер Роман Борисевич, с «Тряпичным союзом» все начало складываться, и я ушел из «Хорошего мальчика», чем, конечно, сильно расстроил продюсеров. Они потом нашли замечательную Оксану Карас, которая внесла кое-какие коррективы в сценарий, и я уже дальше почти не включался. Не все там было гладко и благородно на проекте, но это уже дело прошлое. На «Кинотавре» вроде премьера прошла ярко, фильм понравился. И то, что дали главный приз, – это, конечно, славно.
Ɔ. Это тоже очень ироничное кино…
А я вообще с трудом представляю себе, что меня может зацепить нечто, на чем нет налета иронии. Когда мне начинают что-то расписывать, как говорится, «на серьезных щах» – я это не ем. Совсем.
Ɔ. То есть драму вы не будете снимать?
Я считаю, что «Тряпичный союз» – это как раз лютая драма. Но я пытался снять фильм исходя из того, какое бы кино попало лично в меня. А для меня дверь в драму должна быть ироничной, иначе я не пойду внутрь. Если мне сразу показывают страдающих детей, которых разлучают с родителями, или несчастным жертвам рубят головы, я закрываюсь, надеваю железные доспехи. А через иронию или юмор я готов заходить в самые мрачные и страшные комнаты.Ɔ.