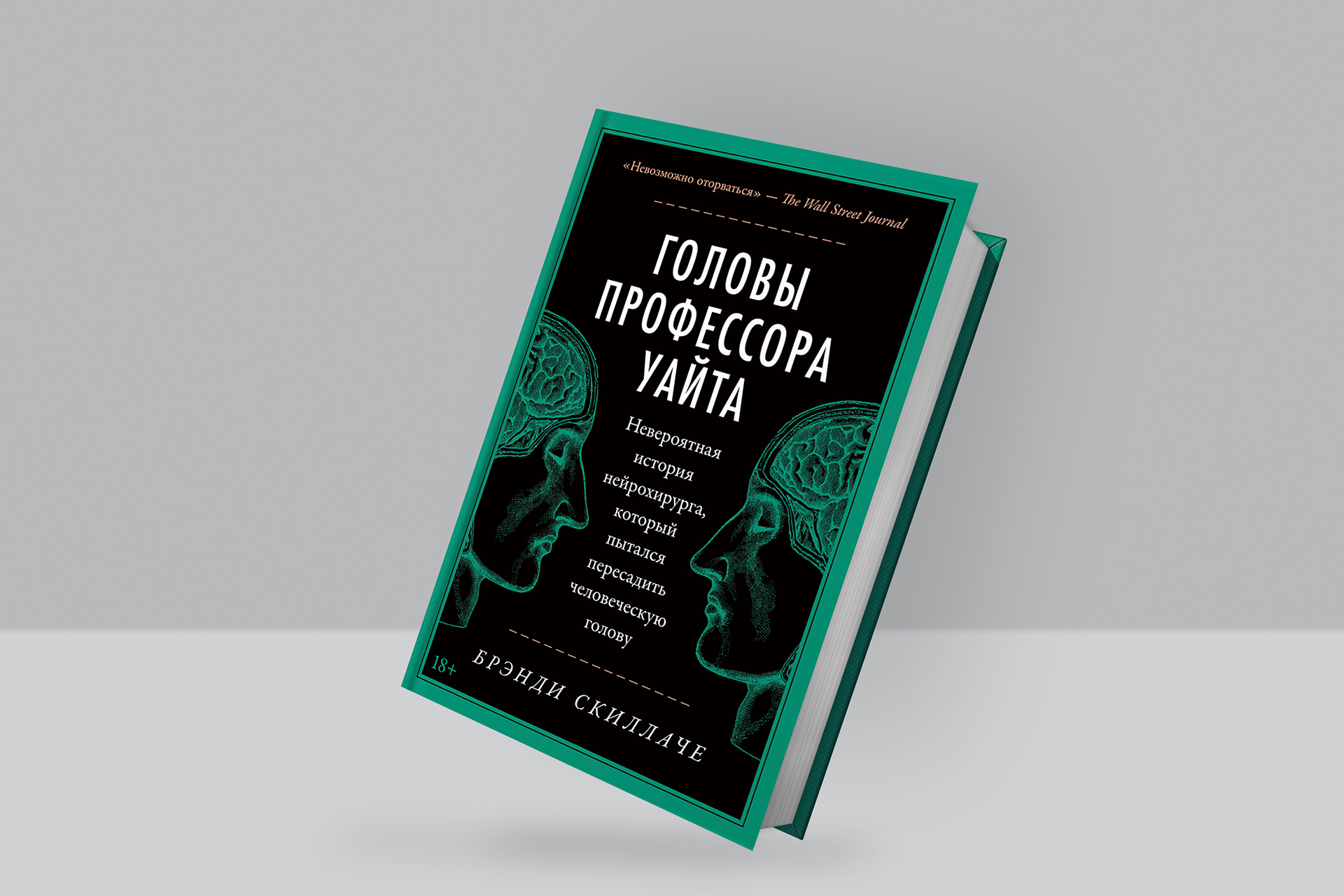«Головы профессора Уайта». История нейрохирурга, который пытался пересадить человеческую голову
Историк медицины Брэнди Скиллаче написала книгу о том, как опыты ученых-трансплантологов XX века помогают спасать жизни сегодня. Главный герой «Голов профессора Уайта» — нейрохирург Роберт Джозеф Уайт, который проводил сложнейшие операции и был номинирован на Нобелевскую премию за метод охлаждения мозга. С разрешения издательства «Альпина Паблишер» «Сноб» публикует отрывок из книги
Мертвый мозг не рассказывает сказки
К 1964 году в США существовало четыре неврологических общества, но Общество Харви Кушинга было самым старым и самым строгим в вопросах членства. Ежегодное собрание этого общества со славной и долгой историей — оно было основано в 1931 году — было привилегированным мероприятием, где обнародовали важные научные достижения. Именно туда должны стремиться такие люди, как Роберт Уайт. Поэтому 20 апреля он собрал чемодан и вылетел в Лос-Анджелес, чтобы представить на собрании Общества Кушинга сокращенную версию статьи, которая вскоре будет напечатана в журнале общества, и удивительные (но, конечно, довольно шокирующие) фотослайды с изображениями успешной изоляции мозга. Последний слайд, заряженный в проектор, нес в себе первое доказательство существования заветного хирургического Грааля: вот изолированный мозг, обнаженный, отделенный от тела.
Для хирургов, рассевшихся за столами с крахмальными скатертями в отеле «Амбассадор», первая изоляция мозга открывает возможностью изучить его реакции на лекарства, изменение температуры, бактериальные инфекции и другие вмешательства — без необходимости «очищать» данные от реакций остального организма. Наконец-то можно попытаться найти ответы на целый ряд вопросов: что требуется мозгу для метаболизма, кроме глюкозы и кислорода? Производит ли мозг химические вещества без участия тела? Как мозг защищает себя, лишившись телесной брони? Техника перфузии «по Уайту» также вызвала ажиотаж: хотя гипотермию применял не он один, но его усовершенствованная методика давала очевидные преимущества, достойные подражания. Однако была одна загвоздка.
«Они увидели миллион применений моим опытам», — рассказывал заметно павший духом Уайт, вернувшись в Кливленд. Миллион применений — но не то единственное, ради которого он все это проделал. Коллеги Уайта из Общества Кушинга признали, что линия энцефалограммы подтверждает электрическую активность изолированного мозга. Но отказались называть это сознанием. При виде ЭЭГ, так взбудоражившей Уайта, они лишь равнодушно пожали плечами. Ему как бы сказали: слишком высоко метишь. В конце концов, в неврологическом сообществе даже нет единого мнения о том, что считать смертью мозга! Конечно, оно не готово (и не особо заинтересовано) разбираться, какие там черточки на миллиметровой бумаге составляют его жизнь.
Вплоть до середины XX века травма головного мозга вела к остановке дыхания: поврежденный мозг прекращает посылать электрические сигналы легким. Следом наступает смерть. С появлением аппаратов ИВЛ, автоматически надувающих и сжимающих легкие больного, стало возможно подключать пациентов с травмой мозга к машине и продлевать им жизнь. В 1956 году появилось понятие «смерть мозга», но и тогда ее признаки были в лучшем случае определены вчерне. В следующее десятилетие вопрос несколько прояснился с появлением новой технологии — электроэнцефалографии. «Изоэлектрический» сигнал — ровная линия — означает, что прибор не регистрирует электрических импульсов: это стало одним из критериев смерти мозга, наряду с неподвижными зрачками, отсутствием рефлексов и автономного дыхания. Но это еще не ответ на главный вопрос: мертв ли человек? Или только «эквивалентен мертвому», мертв формально? Лионский невролог П. Вертхаймер и двое его коллег в эпохальной статье, написанной по-французски, назвали состояние, при котором наблюдаются эти четыре признака, «посткомой» — это прогноз летального исхода, но еще не совсем смерть. Это определение казалось слишком расплывчатым. Пациент с мертвым мозгом может быть «признан мертвым», но это еще не делает его «трупом». А эксперимент Уайта с мозгом без тела выворачивает ситуацию наизнанку: у такого мозга есть электрическая активность — один из критериев жизни, но нет трех прочих: зрачки не движутся (их нет), легкие не дышат (их удалили), а без помощи киборга — сплава обезьяны и машины — не было и кровообращения. Уайт, бесспорно, продемонстрировал удивительные вещи, — еще нужно было суметь охладить мозг на 50 градусов ниже нормы, не повредив его! — но не смог доказать, что этот мозг живой, а сам мозг говорить за себя не может.
Или может? Дома, в кабинете, под постоянный топот множества ног — мальчишки нашли способ отпирать буфет разобранной авторучкой и таскали оттуда сладости, — Уайт обдумывает новый эксперимент. Идея смелая, но процесс придется разделить на три этапа. Для начала он закажет для лаборатории под опытных собак, а не обезьян: всего их понадобится двенадцать. Как и обезьян, их разобьют на пары донор–реципиент. Вердура и Генри Браун, новый нейрохирург в команде, возможно, не сразу поймут, к чему этот шаг назад, и только проницательный Албин не смутится. Но еще до начала новых опытов на собаках Уайт вернется в хирургическое отделение кливлендской клиники «Метро», чтобы выполнить второй этап своего плана. Пора испытать метод перфузии там, где он нужнее всего.
Фрэнк Нулсен рискнул нанять Уайта, поскольку хотел, чтобы отделение нейробиологии в его больнице ни в чем не уступало гарвардскому. Возможно, именно поэтому в клинике «Метро» где-то с апреля по июнь 1964 года произошло нечто неслыханное. Пациента (чье имя не было раскрыто) привезли для экстренной операции по удалению злокачественной опухоли головного мозга. Во время операции команда Уайта охладила мозг пациента — с обычных 98,6 градуса по Фаренгейту (37 по Цельсию) до 51,8 (11). Уайт считал, что при такой низкой температуре мозг входит в состояние анабиоза и «актеры застывают на сцене». Перевязав артерии, хирурги временно остановили подачу крови в мозг, чтобы улучшить видимость и облегчить манипуляции: хирурги называют это «работать на сухом поле». Когда кровоток восстановили и мозг вернулся к изначальной температуре, пациент пришел в себя без каких-либо побочных эффектов.
Дебют операции состоялся через год, и о ней написал международный журнал Surgical Neurology. Однако в «Метро» первое официальное клиническое испытание перфузии на человеке разрешат лишь в 1968 году — и вскоре ее прекратят применять из опасения судебных исков. В XXI веке опыты Уайта с охлаждением лягут в основу стандартного протокола лечения травм — но в то время они оставались любопытной новинкой.
8 июня 1964 года Уайт дал первое в жизни интервью — журналистам The New York Times. Прессу интересовали его недавние успехи в применении перфузии на человеческом мозге, но он говорил не столько о своих поправляющихся пациентах, сколько о своих обезьянах. Третий этап смелой идеи Уайта предполагал освещение работы его команды в масс медиа — чтобы о ней узнало как можно больше людей.
«Хотя ученые-медики еще спорят о выгодах и рисках глубокого охлаждения мозга, — гласил текст статьи на первой полосе, — доктор Уайт твердо убежден, что это одно из самых действенных орудий в руках нейрохирургов». Уайт описывал «чрезвычайно тонкие и точные манипуляции», которых потребовало изолирование обезьяньего мозга, но опустил кое-какие неаппетитные подробности. А далее в статье проводилась мысль, что когда-нибудь хирурги смогут поддерживать жизнь в пациенте без легких и сердца, сохраняя мозг живым при помощи исключительно аппаратов искусственного кровообращения. В общем, статья рисовала Уайта новатором. Вскоре Уайт рассказал об опытах по изолированию мозга в Nature, журнале естественнонаучной тематики, у которого, конечно, было куда больше читателей, чем у специализированного журнала Общества Кушинга. Эти первые неловкие прогулки под софитами положили начало стратегии, которой Уайт будет следовать до конца своих дней: он намерен совершать великие, неслыханные дела — и не будет сидеть в углу.
А между тем в лаборатории его команда собиралась попробовать нечто новое — эксперимент, по итогам которого тоже планировалась публикация в Nature. Если все удастся, статья будет называться «Пересадка собачьего мозга».
Опыты Уайта с обезьянами подтвердили, что изолировать мозг возможно, но без связи с организмом электрические сигналы никуда не идут и у мозга нет возможности взаимодействовать с миром. Уайт решил взять мозг небольшой собаки, пересадить его в специально созданную полость на шее другой собаки, побольше размером, и подключить пересаженный мозг к сосудистой системе реципиента. Собака-реципиент будет выглядеть относительно нормально — кроме разве что выпуклости на шее. А живой мозг другой собаки будет работать в действующем организме, и, пока стимулируется тело собаки реципиента, Уайт посредством энцефалограммы сможет увидеть ответ пересаженного мозга. Уайт уже решил проблему отсутствующих рефлексов: он установил, что звонок колокольчика вблизи перерезанного слухового нерва вызывает в мозге ту же химическую реакцию, какая наблюдается у живых животных. И теперь у него было средство долговременного «хранения» мозга в собаке, которую не нужно пристегивать к стулу и приковывать к аппарату искусственного кровообращения с его бесчисленными трубами. Что еще более удивительно, после первых пересадок собачий организм не отторгал чужеродную мозговую ткань, как отторгал бы почку или печень: в теле немецкой овчарки второй мозг продолжал жить и успешно функционировать. Это и удивляло до дрожи, и обнадеживало: да, невозможно (пока невозможно) заменить мозг живого существа на другой, чужой, как сделал доктор Франкенштейн, а второй мозг собаки не способен управлять ее организмом, — но если удастся преодолеть оставшиеся препятствия, организм теоретически может принять нового «хозяина» как собственный орган. Искусство имитирует жизнь, наука повторяет искусство.
В 1965 году команда Уайта отправила результаты эксперимента в Nature. Оставалось ждать. И они ждали. Публикации в научных изданиях и растущий авторитет Уайта в прессе не позволяли научному сообществу игнорировать его работу — однако и соглашаться с ним коллеги не спешили. «О, это потрясающе, отличная энцефалограмма, — вспоминал он о своих огорчениях в одном из позднейших интервью. — Но вы уверены, что этот мозг думает? Что в нем работает сознание?» Уайт отвечал, что да; коллеги-нейрохирурги возражали: откуда такая уверенность? Это может быть просто рефлекс или какая-то пока необъяснимая остаточная активность. Это может быть что угодно. Скептицизм коллег выводил Уайта из себя. Враждебность не враждебность, но определенное отчуждение в них читалось явно. Пришло лето, и Уайт под палящим солнцем торчал в собственном дворе с женой. Патрисия понимала, что такое медицина, и неизменно поддерживала мужа в его работе. Но на последнем месяце беременности седьмым ребенком у нее ныла спина и кончалось терпение. «Не сходить ли тебе в отпуск, — предложила она. — Свози детей куда-нибудь».
Так началась семейная традиция: отпуск не столько для Уайта, сколько для Патрисии. Они называли это ее «отпуском от семьи». Оставив жену дома и загрузив шестерых детишек в семейный микроавтобус, Уайт покатил в отель «Брекерс» близ парка развлечений «Сидер-пойнт» на южном берегу озера Эри. Посреди такого хаоса Уайту понадобились необычайно строгие методы. Он заказал белые футболки с номерами и купил мегафон, а затем разрешил всем шестерым детям бегать по пляжу — целую неделю. Он приглядывал за ними из-под пляжного зонтика, время от времени командуя в мегафон: «Номер два, ты заплыл слишком далеко, поворачивай к берегу». Но и на берегу озера Уайт не прекращал обдумывать все ту же проблему. Мозг, всего полтора килограмма массы и триллионы клеток, отвечает и за все, что знает Уайт, человеческая особь, и за все, что человечество в целом знает о Вселенной. Уайт понимал, что мозг — вместилище сознания, он это чувствовал. В последний год он с удовольствием выходил на публику, но не спешил открыто говорить все, что у него на уме. Как сказать открытым текстом, что по ночам тебе снятся тяжело травмированные мозги в здоровых телах и изувеченные тела со здоровыми мозгами? Как объяснить свое увлечение, свою одержимость спасением этих душ, оказавшихся в ловушке? Наблюдая за играющими детьми, за их подвижными телами в полной гармонии с подвижным умом, Уайт, должно быть, видел резкий контраст с проблемой, которую мечтал решить. Ему предстоит доказать, что сознание можно пересадить, а лучшее свидетельство работы сознания — поведение организма. Демихов и его короткая зернистая кинохроника, история Ричарда Херрика — все это разбудило в Уайте жажду исследовать возможности науки, вымостило для него путь. Еще год назад поездка в Лос-Анджелес казалась далеким путешествием. Но теперь, задавшись вопросом, как убедить коллег в том, что изолированный мозг остается живым, Уайт обратил взор в сторону Москвы. Возможно, какие-то ответы есть у Демихова с его двухголовыми собаками.
В кипе корреспонденции на столе Уайта встречались на удивление официальные письма. Он откладывал их в сторону под разными предлогами, а теперь решил взглянуть на них новыми глазами. Отправителем значился 1-й Московский медицинский институт имени Сеченова, где, по слухам, проводил некоторые из своих опытов Демихов.
Уайта приглашают за железный занавес.