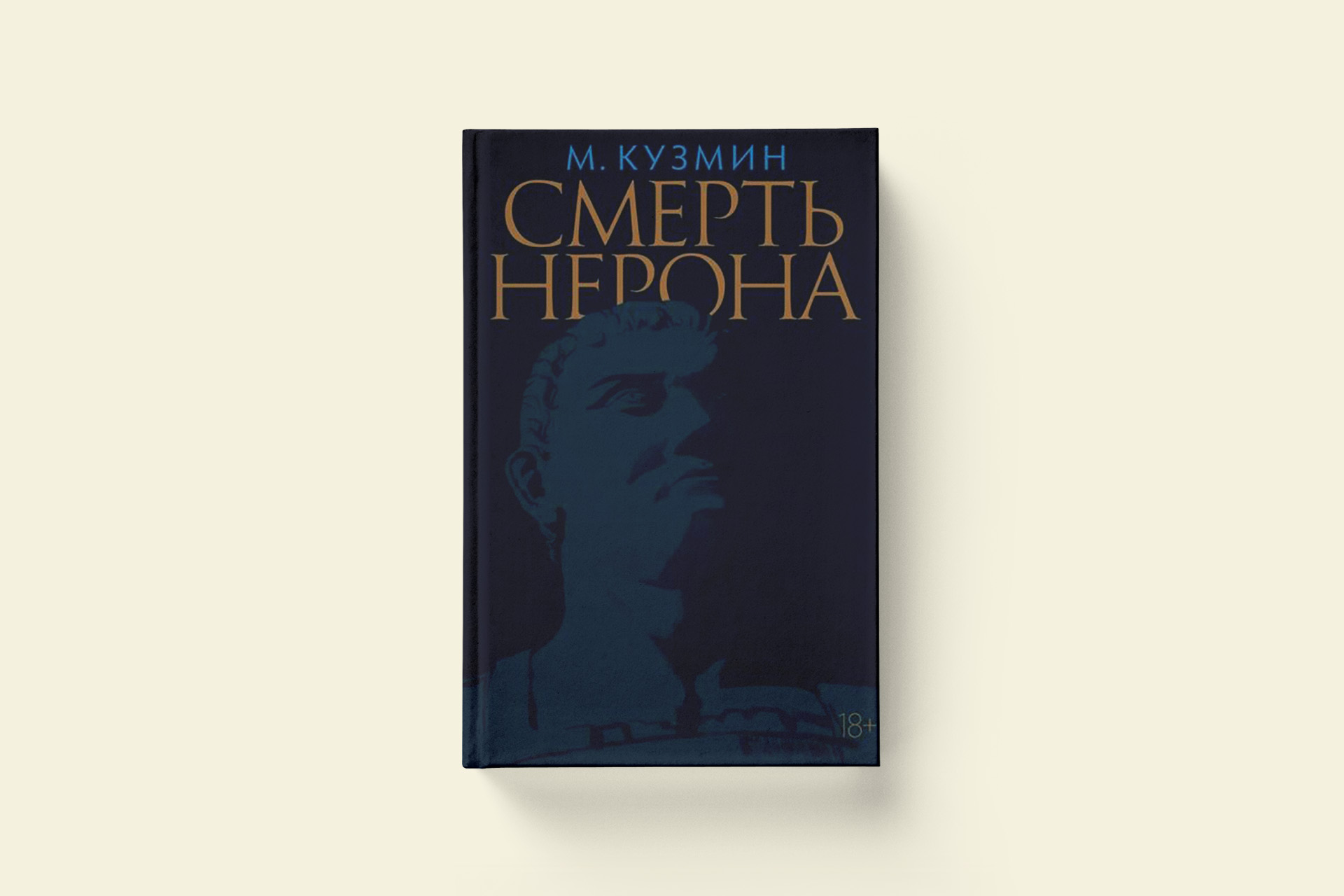Пять лучших книг 2025 года: итоги «Сноба»
Эдуард Веркин — «Сорока на виселице»
«Эксмо, Inspiria»
Человечество достигло Утопии, но не придумало, что с ней делать. Край возможностей обернулся ступором. Brand new future тоскливо, и в попытке выдвинуться дальше синхронные физики надрываются и мельтешат, пока остальной мир всё меньше им доверяет. Чтобы убедиться (или окончательно разочароваться) в ценности проводимых исследований, на планете Реген собирается Большое Жюри, состоящее как из светлых умов, так и из самых непримечательных прямоходящих. Замысел таинственен. Разгадать его берётся — своими, насколько это реально, силами — Ян, один из избранных.
Роман Эдуарда Веркина убедительно прикидывается научной фантастикой; однако чем дальше продвигаешься по сюжету, тем сильней тот напоминает герметический трактат в пересказе лунатика. Будущее зловеще, хищные вещи разгрызли веко, Утопия просит, чтобы её утопили, и рядом снуют молчаливые призраки. Намеренно выстроенный шарадой, «Сорока на виселице» предлагает уйму амбициозных, забытых русской литературой вопросов, и возносит их на вершины отстранённой художественной игры, где можно отыскать и Эдгара По, и Питера Уоттса.
Другое дело, что эта большая книга не предназначена для большинства. Читать её непросто, местами головоломно; добраться до финала с ясным сознанием ещё сложней. Но является ли это недостатком, когда в лицо несутся размах, страстность, грандиозная архитектура вымысла? Много лет Веркин писал находчивую, строптивую и обаятельную прозу «для детей и юношества», но от неё всегда оставалась дымка чего-то большего — того самого писательского Невыразимого, что сполна раскрылось в «Острове Сахалине» (2018) и «снарке снарке» (2022). «Сорока на виселице» венчает тройку сильнейших и предлагает волнительное ожидание. Постапокалиптика. Мистерия. Роман идей. Что впереди?
Надежда Панкова — «Про кабанов, бобров и выхухолей»
«Белая ворона»
Тихое счастье этого года и чудесный дневник наблюдений. «Я учился траве, открывая тетрадь, и трава начинала как флейта звучать». Строки из стихотворения Арсения Тарковского хочется переиначить, сказав, например, что нам есть чему поучиться у парнокопытных, грызунов и насекомоядных. Радости быть — здесь и сейчас, без лишних мыслей; воспринимая жизнь как дар, лишённый смысла и в смысле не нуждающийся. Узнать, помимо остального, к чему зоологу метла и кто полезней для науки: бобёр-трудяга или бобёр-лентяй.
Надежда Панкова придумала книгу в непривычных тонах эмерсоновского трансцендентализма, этакую документальную сказку, что воспринимается не хуже «Ветра в ивах» (The Wind in The Willows, 1908) Кеннета Грэма или «Обитателей холмов» (Watership Down, 1972) Ричарда Адамса. Наши зверята зримы, трогательны, и быт их окутан нежным туманом догадок. Фотоловушки, нежданные встречи-знакомства и, конечно, бесценное чувство, как выразился один народный философ, слияния с бесконечно вечным, — вот что дарует читателю эта талантливая, смешная и лёгкая книга.
Просветительская её ценность совмещена с редким художественным задором. Магия без дополнений. Учёный-натуралист, Панкова явно далека от формалистской скуки и пишет ровно так, как слышит: этот мир, этих зверят, этот восхитительный опыт взаимодействия. «Про кабанов, бобров и выхухолей» учит смотреть вокруг пристальней — и вглядываться в себя, обнаруживая столько диковинного, занятного, сколько ни один заезжий романист, отделываясь стилизациями, за всю жизнь не обнаружит. А ещё тут, скажу я вам, поразительные иллюстрации — авторства самой Надежды!
Эдуард Лимонов — «Москва майская»
«Альпина.Проза»
Утерянный роман классика-сорвиголовы чудом вырвался из небытия. Отдыхая между своими ключевыми парижскими текстами («Подросток Савенко», «Укрощение тигра в Париже», «Великая мать любви»), Эдуард Лимонов пишет «Москву майскую» (1986) — нетипично воздушный, ностальгический роман о богемной молодости в советской столице, куда лихого Эди-бэби заносит прямо из Харькова. Кубические попойки с королями подполья, ревность, тщеславие, поэтическое ремесло по Буало и сумрачная роскошь по Бухало; портрет художника в молодости, который Лимонов рвал и писал заново несколько раз за жизнь.
Брюки-шитьё-штопанье, вражда с Губановым, внедрение в СМОГ и многое прочее, что мы знаем через фактоиды, но впервые наблюдаем глазами героя своего времени. На момент написания рукопись Лимонову чем-то не понравилась и была убрана в стол, откуда, впрочем, доискалась читателя только сейчас. Сначала ходили слухи, что книга потеряна навсегда (переехал, а хозяин квартиры сдал её капралу Иностранного Легиона, и тот решил топить камин робкими бумагами), но вот её находят в одном из архивов, и, о чудо, приносят выправленной-отредактированной.
Проза Лимонова интересна вне зависимости от содержания, но тут случай даже более экстравагантный: культовый жизнетворец в зените метода обращается к прошлому, чтобы не просто отразить его словом, а прояснить что-то в настоящем, избавиться, быть может, от гнетущего чувства мансардной парижской неустроенности. Думаю, этот роман Лимонова стоит воспринимать как опосредованные mémoires и прощание с нежным гуманизмом, от которого писатель вот-вот перейдёт к Большой Истории: Балканам, Чёрному октябрю и провозглашению собственной партии.
Уильям Гэддис — «Распознавания»
Kongress W Press
Другой значительный артефакт, прибывший к нам переведенным на русский язык в этом году. Желчный одиночка Уильям Гэддис (1922–1998) едва ли напоминает американца, но является им на все сто, без скидок и чёрных пятниц: стоит между умирающим модерном и карнавалом деконструкций, братается с битниками, курит наособицу, думает поверх времени и, однако, крайне хорошо время — своё, чужое, ничейное, — угадывает. Играет в литературу мало, но по-крупному.
«Распознавания» (The Recognitions, 1955) — дебютный и во многих отношениях главный его роман, ниточка беспокойства, протянутая от XX века к XXI столетию. Фиксация отчётливой, по мнению писателя, смерти — не столько автора, сколько мировой души; переход от состояний живости к бесконечным пародиям (и не менее бесконечным шуткам). Благообразный художник Уайат Гвайн жаждет Творить, но вынужден Подделывать: полотна старых мастеров, да-да, чтобы иметь денежку и как-то выживать в этом прекрасном и яростном мире.
Сделка с нью-йоркским Мефистофелем оборачивается трагедией античного беспутства: впопыхах хрипят трубы, сохнут губы и трещат кимвалы. Гвайн бредёт чрез слишком шумное одиночество и сталкивает лбами самых разных полуночников, от которых буквально смердит гордыней и скорбью. Почему? Потому что призрак детства, радостно абрикосовый, рано или поздно истлевает, да и память сердца — продукт скоропортящийся. Ужас в портках комизма: огромный роман-загадка, атомный ремикс на Средневековье, кровь и магма борющейся, но стремительно замерзающей души.
Михаил Кузмин — «Смерть Нерона»
«Издательство Ивана Лимбаха»
Год возвращений, не иначе. Выдающийся поэт и прозаик Серебряного века, Михаил Кузмин (1872–1936) сначала запомнился городу и миру как счастливый гедонист-любомудр и глашатай верлибра («Александрийские песни», 1906), однако позже стал ассоциироваться — по большей части — с явлением раннего ленинградского авангарда, в первую очередь, конечно, из-за цикла стихотворений «Форель разбивает лёд» (1929) и замечательных, мало на что похожих дневников (также выпущенных-реанимированных Издательством Ивана Лимбаха). Просто такая сильная любовь: хранитель ключей, благодетель эксперимента, воспитатель традиции.
«Смерть Нерона» (1929), поздняя пьеса Кузмина, написана под впечатлением от смерти Ленина и представляет собой трудное размышление о природе власти. Действие разворачивается в двух временных отрезках: сценах из жизни римского деспота Нерона (от детства к падению) и трудах и днях выдуманного писателя Павла Лукина. Резкая, взрывоопасная смесь политической сатиры, социального прогноза и вневременной, в шекспировском духе, жестокости, с которой Кузмин разоблачает человеческое естество, выискивая в нём хоть что-нибудь, достойное оправдания, не может не впечатлить даже искушённого современной драматургией читателя.
Пьеса, замечу, блестяще издана и прокомментирована: иллюстрации Татьяны Свириной усиливают гнетущее чувство безвыходности, в которой оказывается человек, уверовавший в бескрайность воли (скованные одной цепью, связанные одной целью), а детальный академический комментарий Лады Пановой позволяет иначе взглянуть на жизнь и творчество одного из наиболее изучаемых теперь — и по-прежнему таинственного, закрытого, непроницаемого Михаила К., чей взгляд на искусство способен многое прояснить не только в прошлом, но и в таком запутанном настоящем.