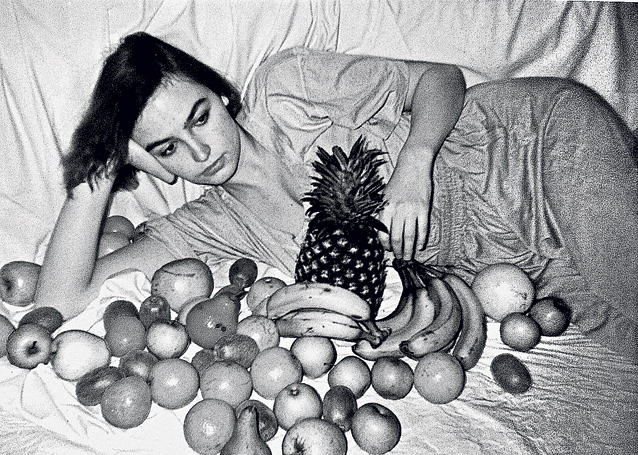Карина Добротворская: Письма к Сереже
Семнадцать лет назад, в ночь с 26 на 27 августа 1997 года, умер Сергей Добротворский. К тому моменту мы уже два месяца были в разводе. Таким образом, я не стала его вдовой и даже не присутствовала на похоронах. Мы прожили с ним шесть лет. Сумасшедших, счастливых, легких, невыносимых лет. Так случилось, что эти годы оказались самыми главными в моей жизни. Любовь к нему, которую я оборвала, – самой сильной любовью. А его смерть – и моей смертью, как бы пафосно это ни звучало.
За эти семнадцать лет не было ни дня, чтобы я с ним не разговаривала. Первый год прошел в полусознательном состоянии. Джоан Дидион в книге «Год магического мышления» описала невозможность разорвать связь с умершими любимыми, их физически осязаемое присутствие рядом. Она – как и моя мама после папиной смерти – не могла отдать ботинки умершего мужа: ну как же, ему ведь будет не в чем ходить, если он вернется – а он непременно вернется.
Постепенно острая боль отступила – или я просто научилась с ней жить. Боль ушла, а он остался со мной. Я обсуждала с ним новые и старые фильмы, задавала ему вопросы о работе, хвасталась своей карьерой, сплетничала про знакомых и незнакомых, рассказывала о своих путешествиях, воскрешала его в повторяющихся снах.
С ним я недолюбила, не договорила, не досмотрела, не разделила. После его ухода моя жизнь распалась на внешнюю и внутреннюю. Внешне у меня был счастливый брак, прекрасные дети, огромная квартира, замечательная работа, фантастическая карьера и даже маленький дом на берегу моря. Внутри – застывшая боль, засохшие слезы и бесконечный диалог с человеком, которого больше не было.
Я так свыклась с этой макабрической связью, с этой Хиросимой – моей любовью, с жизнью, в которой прошлое важнее настоящего, что почти не задумывалась о том, что жизнь может быть совсем другой. И что я снова могу быть живой. И – страшно подумать – счастливой.
А потом я влюбилась. Началось это как легкое увлечение. Ничего серьезного, просто чистая радость. Но странным образом это невесомое чувство, ни на что в моей душе не претендующее, вдруг открыло в ней какие-то шлюзы, откуда хлынуло то, что копилось годами. Хлынули слезы, неожиданно горячие. Хлынуло счастье, перемешанное с несчастьем. И во мне тихо, как мышь, заскреблась мысль: а вдруг он, мертвый, меня отпустит? Вдруг позволит жить настоящим?
Годами я говорила с ним. Теперь я стала писать ему письма. Заново, шаг за шагом, проживая нашу с ним жизнь, так крепко меня держащую.
Мы жили на улице Правды. Нашей с ним правды. В этих письмах нет никаких претензий на объективный портрет Добротворского. Это не биография, не мемуары, не документальное свидетельство. Это попытка литературы, где многое искажено памятью или создано воображением. Наверняка многие знали и любили Сережу совсем другим. Но это мой Сережа Добротворский – и моя правда.
8 января 2013
Привет! Почему у меня не осталось твоих писем? Сохранилось только несколько листков с твоими смешными стишками, написанными-нарисованными рукотворным печатным шрифтом. Несколько записок, тоже написанных большими полупечатными буквами. Сейчас я понимаю, что почти не помню твоего почерка. Ни мейлов, ни эсэмэс – ничего тогда не было. Никаких мобильных телефонов. Даже пейджер был атрибутом важности и богатства. А статьи мы передавали отпечатанными на машинке – первый (286-й) компьютер появился у нас только спустя два года после того, как мы начали жить вместе. Тогда в нашу жизнь вошли и квадратные дискеты, казавшиеся чем-то инопланетным. Мы часто передавали их в московский «Коммерсантъ» с поездом. Почему мы не писали друг другу писем? Просто потому, что всегда были вместе? Однажды ты уехал в Англию – это случилось, наверное, через месяц или два после того, как мы поженились. Тебя не было совсем недолго – максимум две недели. Не помню, как мы тогда общались. Звонил ли ты домой? (Мы жили тогда в большой квартире на 2-й Советской, которую снимали у драматурга Олега Юрьева.) А еще ты был без меня в Америке – долго, почти два месяца. Потом я приехала к тебе, но вот как мы держали связь все это время? Или в этом не было такой уж безумной потребности? Разлука была неизбежной данностью, и люди, даже нетерпеливо влюбленные, умели ждать.
Самое длинное твое письмо занимало максимум полстраницы. Ты написал его в Куйбышевскую больницу, куда меня увезли на скорой помощи с кровотечением и где поставили диагноз «замершая беременность». Письмо исчезло в моих переездах, но я запомнила одну строчку: «Мы все держим за тебя кулаки – обе мамочки и я».
Жизнь с тобой не была виртуальной. Мы сидели на кухне, пили черный чай из огромных кружек или кисловатый растворимый кофе с молоком и говорили до четырех утра, не в силах друг от друга оторваться. Я не помню, чтобы эти разговоры перемежались поцелуями. Я вообще мало помню наши поцелуи. Электричество текло между нами, не отключаясь ни на секунду, но это был не только чувственный, но и интеллектуальный заряд. Впрочем, какая разница?
Мне нравилось смотреть на твое слегка надменное подвижное лицо, мне нравился твой отрывистый аффектированный смех, твоя рок-н-ролльная пластика, твои очень светлые глаза. (Ты писал про Джеймса Дина, на которого, конечно, был похож: «актер-неврастеник с капризным детским ртом и печальными старческими глазами».) Когда ты выходил из нашего домашнего пространства, то становилась очевидной несоразмерность твоей красоты внешнему миру, которому надо было постоянно что-то доказывать, прежде всего – собственную состоятельность. Мир был большой – ты был маленький. Ты, наверное, страдал от этой несоразмерности. Тебя занимал феномен гипнотического воздействия на людей, который заставляет забыть о невысоком росте: «Крошка Цахес», «Парфюмер», «Мертвая зона». Ты тоже умел завораживать. Любил окружать себя теми, кто тобой восторгался. Любил, когда тебя называли учителем. Обожал влюбленных в тебя студенток. Многие из твоих друзей обращались к тебе на «вы» (ты к ним тоже). Многие называли по отчеству. Я никогда тебе этого не говорила, но ты казался мне очень красивым. Особенно дома, где ты был соразмерен пространству.
А в постели между нами и вовсе не было разницы в росте.
22 января 2013
Я так отчетливо помню, как увидела тебя в первый раз. Эта сцена навсегда засела у меня в голове – словно кадр из фильма новой волны, какого-нибудь «Жюля и Джима».
Я, студентка театрального института, стою со своими сокурсницами на переходе у набережной Фонтанки, около сквера на улице Белинского. Напротив меня, на другой стороне дороги – невысокий блондин в голубом джинсовом костюме. У меня длинные волосы до плеч. Кажется, у тебя они тоже довольно длинные. Зеленый свет – мы начинаем движение навстречу друг другу. Мальчишеская худая фигурка. Пружинистая походка. Едва ли ты один – вокруг тебя на Моховой всегда кто-то вился. Я вижу только тебя. По-женски тонко вырезанное лицо и голубые (как джинсы) глаза. Твой острый взгляд меня резко полоснул. Я останавливаюсь на проезжей части, оглядываюсь:
– Это кто?
– Ты что! Это же Сергей Добротворский!
А, Сергей Добротворский. Тот самый.
Ну да, я много слышала про тебя. Гениальный критик, самый одаренный аспирант, золотой мальчик, любимец Нины Александровны Рабинянц, моей и твоей преподавательницы, которую ты обожал за ахматовскую красоту и за умение самые путаные мысли приводить к простой формуле. Тебя с восторженным придыханием называют гением. Ты дико умный. Ты написал диплом об опальном Вайде и польском кино. Ты – режиссер собственной театральной студии, которая называется «На подоконнике». Там, в этой студии на Моховой, в двух шагах от Театрального института (так написано в билете), занимаются несколько моих друзей: однокурсник Леня Попов, подруга Ануш Варданян, университетский вундеркинд Миша Трофименков. Туда заглядывают Тимур Новиков, Владимир Рекшан, длинноволосый бард Фрэнк, там играет на гитаре совсем еще юный Максим Пежемский. Там ошивается мой будущий лютый враг и твой близкий друг, поэт Леша Феоктистов (Вилли).
Мои друзья одержимы тобой и твоим подоконником. И мне, презирающей подобного рода камлания, они напоминают сектантов. Андеграундные фильмы и театральные подвалы меня не привлекают. Я хочу стать театральным историком, азартно роюсь в пыльных архивах, близоруко щурюсь, иногда ношу очки в тонкой оправе (еще не перешла на линзы) и глубоко запутана в отношениях с безработным философом, мрачным и бородатым. Он годится мне в отцы, мучает меня ревностью и проклинает все, что так или иначе уводит меня из мира чистого разума (читай – от него). А театральный институт уводит каждый день. (Недаром театр на моем любимом сербском – «позорище», а актер – «глумец».)
Театральный институт был тогда, как сказали бы сейчас, местом силы. Это были его последние золотые дни. Здесь еще преподавал Товстоногов, хотя оставалось жить ему недолго, несколько месяцев. Ты называл его смерть счастливой – он умер мгновенно (про смерть говорят «скоропостижно», больше ведь ни про что так не говорят?), за рулем. Все машины поехали, когда включился зеленый свет, а его знаменитый «мерседес» не двинулся с места. Так умирает герой Олега Ефремова за рулем старой белой «Волги» в фильме с невыносимым названием «Продлись, продлись, очарованье» – под тогдашний истерически-бодрый хит Валерия Леонтьева «Ну почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, потому, потому, что был он в жизнь влюбленный».
Мы ходили на репетиции к Кацману. Его предыдущий курс был звездным курсом «Братьев Карамазовых»: Петя Семак, Лика Неволина, Максим Леонидов, Миша Морозов, Коля Павлов, Сережа Власов, Ира Селезнева. Кацман любил меня, часто останавливал на институтских лестницах, задавал вопросы, интересовался, чем я занимаюсь. Я болезненно стеснялась, что-то лепетала про темы своих курсовых. Вместе с Кацманом на Моховой преподавал Додин и именно тогда выпустил «Братьев и сестер», на которых мы ходили по десять раз. Лучшие педагоги были еще живы – студентки-театроведки млели от лекций Барбоя или Чирвы, в аудиториях витали эротические флюиды. Студенты-актеры носились со своими невоплощенными талантами и неясным будущим (про самых ярких говорили: «Какая прекрасная фактура!»); студентки-художницы носили длинные юбки и самодельные бусы (ты называл эту манеру одеваться «магазином “Ганг”»); студенты-режиссеры вели беседы о Бруке и Арто в институтской столовой за стаканом сметаны. Так что и ленинградский театр, и ЛГИТМиК (он сменил столько названий, что я запуталась) были еще полны жизни и притягивали одаренных и страстных людей.
Тогда, на Фонтанке, когда я остановилась и обернулась, то увидела, что ты тоже обернулся. Через несколько лет все запоют: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». Мне показалось, что ты посмотрел на меня почти презрительно. При твоем маленьком росте – сверху вниз.
Ты потом говорил мне, что не помнишь этой встречи – и что вообще увидел меня совсем не там и не тогда.
26 марта 2013
Так обидно, что сегодня тебя не было рядом со мной. Я ходила на выставку «Дэвид Боуи» в лондонском Музее Виктории и Альберта. Я о ней столько слышала и читала, что казалось, я там уже побывала. Но, оказавшись внутри, почувствовала, что сейчас потеряю сознание. Там было столько тебя, что я эту выставку проскочила почти по касательной, не в силах впустить в себя. Потом сидела где-то на подоконнике у внутреннего музейного дворика и старалась удержать слезы (увы, безуспешно).
И дело не в том, что ты всегда восхищался Боуи и сам был похож на Боуи. «Хрупкий мутант с кроличьими глазами» – так ты его однажды назвал. И не в том, что твои коллажи, рисунки, даже твой полупечатный почерк так напоминали его. И даже не в том, что для тебя, как и для него, так много значила экспрессионистская эстетика, так важны были Брехт и Берлин, который ты называл городом-призраком, исполненным пафоса, пошлости и трагизма. Дело в том, что жизнь Боуи была бесконечной попыткой превращения себя в персонаж, а жизни – в театр. Сбежать, спрятаться, изобрести себя заново, обмануть всех, закрыться маской.
Я нашла твою статью о Боуи двадцатилетней давности. «Кинематограф по определению был и остается искусством физической реальности, с которой Боуи долго и успешно боролся, синтезируя собственную плоть в некое художественное вещество».
Помню, как ты любовался его разноцветными глазами. Называл его божественным андрогином. Как восхищался его персонажем – ледяной белокурой бестией – в умозрительном и статичном фильме Осимы «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс!», который ты любил за нечеловеческую красоту двух главных героев. Как говорил, что вампирский поцелуй Боуи с Катрин Денев в «Голоде» – едва ли не самый прекрасный экранный поцелуй. Тогда меня все это не слишком впечатляло, но теперь неожиданно ударило в самое сердце. И в той же твоей статье я читаю: «Кинематограф так и не уловил закон, по которому живет это вечно изменяющееся тело. Но кто знает, может быть, именно сейчас, когда виртуальная реальность окончательно потеснила физическую, мы все-таки узреем истинный лик того, кто не отбрасывает тени даже в ослепительном луче кинопроектора».
Ну почему, почему у меня текут эти глупые слезы? Ты умер, он жив. Счастливо женат на роскошной Иман, остепенился, обрел вполне себе физическую реальность – и как-то живет со своим виртуальным мифом.
А ты умер.
30 марта 2013
Я много лет о тебе ни с кем не говорила. Ни с кем. Я могла тебя процитировать или вспомнить одну из твоих блестящих реплик. Но говорить о тебе – нет, не могла. Было слишком больно. Возникало ощущение, что тем самым я тебя предаю. Или с кем-то делю. Даже если твои родители произносили что-то вроде «А вот Сережка бы, наверное, сейчас...» – я молчала в ответ.
И вдруг я заговорила. С удивлением обнаружила, что не только не чувствую боли, произнося твое имя или странное словосочетание «мой первый муж», но даже получаю от этого удовольствие. Что это? Почему? Потому ли, что я стала тебе (и о тебе) писать, понемногу выпуская своих демонов? Или потому, что я влюбилась?
Сегодня я видела Таню Москвину – впервые за много лет. Вы вместе учились в институте, ты восхищался мощью ее критического дара и способностью ничего и никого не бояться. Танька всегда резала правду-матку, была иррациональна, пристрастна и явно страдала от того, что ее тонкая душа помещена в несообразно большое тело (ты наверняка так же страдал от своих «карманных» размеров). Однажды, когда мой сын Иван был еще совсем маленьким, Москвина пришла ко мне в гости. Иван внимательно посмотрел на ее яркое асимметричное лицо. Она, как и я, перенесла в юности неврит лицевого нерва. Когда меня в восемнадцать лет привезли с наполовину парализованным лицом в больницу, медсестра, записывающая мои данные, спросила: «Работаете, учитесь?» – «Учусь в театральном институте, на театроведческом факультете». – «Слава богу, что на театроведческом. Актрисы-то из вас теперь не выйдет, с таким-то лицом». Что из меня теперь не выйдет красивой женщины и что это для меня куда большая драма, ее не занимало.
– А почему у тебя один глаз меньше другого? – поинтересовался Иван у Москвиной.
– Сейчас я как дам тебе в глаз, и у тебя будет то же самое, – немедленно парировала Танька. То, что такое обычно не говорят маленьким детям, ей и в голову не приходило. Так она жила – ни в чем никаких ограничений. Ты свою бунтарскую природу мучительно укрощал, к тому же был деликатен и не любил задевать людей. А Танька позволяла себе всегда и во всем быть собой и ничего не делать наполовину. Если бутылка водки – то до дна. Если страсть – то до победного конца. Если ненависть – то до самых печенок. Она умела быть так упоительно свободной и так одержимо неправой, что ты немного ей завидовал. Она тебе всегда отдавала должное, как будто ваша группа крови, замешанная на питерском патриотизме, была одинаковой.
Сегодня Москвина рассказала мне, как ты впервые показал ей меня – в библиотеке Зубовского института на Исаакиевской, 5, куда вы с ней два раза в неделю ходили в присутствие.
– Смотри, какая девушка, – гордо сказал ты. – Это Карина Закс. Она очень интересуется рок-культурой.
– А наш роман уже начался тогда? – спросила я Таню.
– Кажется, нет. Но он уже явно был влюблен.
Ну да, рок-культура, конечно. На третьем году обучения я написала курсовую работу под названием «Над пропастью во ржи». Тогда было модно рассуждать про молодежную культуру. Альтернативную молодежь, разными способами выказывавшую презрение к обществу, почему-то называли системой, а мохнатых татуированных юношей, которые скандировали «Мы вместе!» на концертах «Алисы», – системщиками (сейчас системой называют тех, кто группируется вокруг власти и денег, а системщиками – тех, кто приводит в порядок компьютеры). «Мир, как мы его знали, подходит к концу», – с особым ленинградским придыханием пел Гребенщиков, закидывая голову и закрывая глаза. Он был первым рокером, чью кассету я слушала по десять раз на дню, еще не зная, как он золотоволос и хорош собой. Ленинградский рок-клуб, погружавший нас в сексуальный экстаз, латышская картина «Легко ли быть молодым?», Цой, похожий на Маугли и всегда одетый в черное; бешеный Кинчев с подведенными глазами в фильме «Взломщик»; передачи «Взгляд» и «Музыкальный ринг» на ленинградском телевидении, где взрослые дяди снисходительно пытались разобраться с неформалами и как-то отформатировать рокеров (легче всего этому форматированию поддавался, конечно, БГ, которому на любые системы всегда было наплевать). Я написала страстную курсовую от первого лица, где мой папа высказывал пошло-примирительные идеи старшего поколения, где институтские гардеробщицы ругали мерзкую волосатую молодежь и где цитаты из «Аквариума», «Алисы» и шинкаревских «Митьков» иллюстрировали мои наивные мысли о духовной свободе. Эта захлебывающаяся студенческая работа понравилась руководительнице критического семинара Татьяне Марченко. Она показала ее Якову Борисовичу Иоскевичу, который вместе с тобой делал сборник статей о молодежной культуре. Меня вызвали на Исаакиевскую – на встречу с вами обоими. Я готовилась к этой встрече, безжалостно завивала длинные волосы горячими щипцами, румянила щеки ватой, густо красила ресницы (тушь надо было развести слюной) и слоями накладывала тональный крем. Зачем я это делала – понятия не имею, моя кожа была идеально гладкой и косметики не требовала. Но мне с детства казалось, что можно быть лучше, красивее, хотелось преодолеть разрыв между тем, какой я была на самом деле, и какой могла бы быть, если б... Если б что? Ну хотя бы волосы были кудрявей, глаза больше, а щеки румяней. Как будто, намазывая лицо тональником (продукт совместного творчества L’Oréal и фабрики «Свобода», конечно же, неправильного оттенка, куда темнее, чем требовался моей бледной коже), я пряталась под маской. При этом я надела джинсы с шестью молниями – молодежная культура все-таки. Не жук чихнул.
Я была уверена, что ты будешь меня хвалить, ведь не каждую студентку третьего курса собираются печатать во взрослом научном сборнике. Ты вошел на кафедру, смерил меня ледяным взглядом (я спросила себя, помнишь ли ты нашу встречу на Фонтанке) и высокомерно сказал:
– Я не поклонник такого стиля письма, как ваш.
Я молчала. Да и что можно было ответить? Я-то считала, что написала нечто и вправду классное. И вообще, не я сюда напросилась, вы меня позвали.
– Вы пишете очень по-женски, истерично и эмоционально. Очень сопливо. Много штампов. И к тому же это надо будет в два раза сократить, – произнося все это, ты почти на меня не смотрел. Ты потом говорил мне: «Ты была такая царственная и красивая, что я совсем растерялся, нахамил тебе и даже взглянуть на тебя боялся».
Я продолжала молчать. В этот момент на кафедру вошел Яков Борисович.
– А, так это вы – та самая Карина? Прекрасная работа, прекрасная. Очень украсит наш сборник – написано так страстно и с такой личной интонацией.
Помню, что я испытала благодарность к нему и обиду на тебя, в этот момент равнодушно смотревшего в окно.
Текст я действительно сократила вдвое. Но не убрала из концовки своего отца с его репликами из репертуара тогдашних «папиков» («папиным» в то время называли не только кино). Тебе этот финал казался глупым, а мне – принципиальным, потому что мне хотелось сохранить эту личную интонацию. Обида долго не проходила, я не могла забыть, как ты со мной обошелся. С тех пор мне казалось, что ты продолжаешь меня презирать, и, когда где-то встречала тебя, я как будто слышала твой голос: «Я не поклонник такого стиля...» И бурчала себе под нос: «Ну а я не поклонник вашего интеллектуального занудства».
Но цену этому занудству я уже начала понимать.
31 марта 2013
Привет! Я начинаю письмо и теряюсь – как мне к тебе обращаться? Я никогда не называла тебя Сережей или Сережкой. И уж точно никогда не говорила «Сергей». Когда ты читал у нас лекции, я могла обратиться к тебе «Сергей Николаевич». Впрочем, едва ли; скорее всего, я избегала имени, поскольку уже понимала, что между нами существует пространство, где отчество не предполагается. Я никогда не обращалась к тебе по фамилии, хотя другие твои девушки это делали. Твоя первая жена Катя называла тебя «Добским» – меня всегда передергивало от этого собачьего имени. А может быть, просто от ревности.
До меня только недавно дошло, что никого из своих любимых мужчин я не могла называть по имени, словно боясь коснуться чего-то очень сокровенного. И меня никто из них не называл в глаза Кариной, всегда придумывались какие-то нежные или забавные прозвища. Но когда все-таки называли, то это задевало меня как что-то почти стыдное. А может, мне просто были необходимы имена, которые были бы только нашими, – никем не истрепанные.
Когда мы начали жить вместе, то довольно скоро стали называть друг друга Иванами. Почему Иванами?
Ужасно жаль, я совсем не помню. Не помню, как и когда это имя пробралось в наш словарь. Зато помню все его модификации: Иванчик, Ванька, Ванек, Ванюшка, Иванидзе. Всегда в мужском роде. И помню, как мы однажды стали смеяться, когда я впервые назвала тебя Иваном в постели. Ты ведь не любил говорить в постели? И еще помню, как твоя мама, Елена Яковлевна, ревела в телефонную трубку:
– Ты ведь сына Иваном назвала, да? В честь Сережки?
Это было в тот день, когда я узнала о твоей смерти.
4 апреля 2013
Как мы в первый раз поцеловались? Мы были совсем пьяные. В начале нашего романа мы все время были пьяные, иначе нам не удалось бы разрушить столько барьеров сразу и так отчаянно кинуться друг к другу. Алкоголь был нашим эликсиром храбрости, который мы жадно лакали, как Трусливый Лев из «Волшебника Изумрудного города». Не помню, где и как мы в тот день начали пить. Не помню, что именно мы пили – наверняка какую-то гадость, а что еще все мы тогда пили? Кажется, уже наступили времена спирта «Рояль» в огромных бутылях, из которого что только не делали – от клюквенной настойки до яичного ликера.
Чуть позже в каждом киоске можно было купить ликер «Амаретто». Не уверена, что существовала хотя бы еще одна страна, в которой этот приторный липкий напиток пили литрами и закусывали соленым огурцом.
В тот день мы оказались одни в квартире твоего приятеля. Что пили, обычно не запоминаю. А вот как я была одета – не забываю никогда. На мне была длинная косого кроя черная юбка из жесткого жатого хлопка, широченный черный пояс стягивал несуществующую талию, белая хлопковая блузка в мелкий черный горошек – всю эту красоту я привезла из Польши, куда ездила по студенческому обмену. Заграничная роскошь, пусть и социалистического происхождения. Одна из твоих лучших статей называлась «Заграница, которую мы потеряли!» и была посвящена образу Запада, созданному советским кино, «секретной республике, населенной прибалтийскими актерами и польскими актрисами». В ней ты оплакал Лондон, снятый во Львове, и Вильнюс, загримированный под Берлин, пачки «Мальборо», набитые «Космосом», американских конгрессменов в чешских галстуках, влюбчивых парижанок в пальто из кожзаменителя и баночное пиво, которое редко открывали в кадре, потому что всей группой открывали еще до съемки...
Туфли на мне были тоже заграничные, югославские. Мои единственные нарядные туфли (мама называла их «модельными») – из черной блестящей кожи, узкие, с вырезанным носочком, без каблука (румынские туфли на каблуках лежали у мамы в коробке под кроватью, я тайно надела их один раз, покоцала каблуки и была жестоко отругана). Эти югославские туфли были мне малы на два размера – я купила их у маминой подруги, вернувшейся из загранпоездки. Туфель моего сорокового размера тогда вовсе не существовало, но невозможно же было из-за такой ерунды, как размер, отказаться от подобной красоты! Я вечно чувствовала себя сестрой Золушки, прихрамывающей в чужом башмачке. Как и многие советские девушки, я изуродовала ступни неправильной тесной обувью. Может быть, поэтому я сейчас скупаю туфли всех цветов и форм, выстраиваю их стройными рядами и счастлива от одного сознания, что они у меня есть. Сорокового, сорокового с половиной и даже сорок первого размера!
Мы стояли на кухне, я опиралась на подоконник. Ты был ниже меня ростом и смотрел на меня восторженно и в то же время отстраненно. Дотронулся до моих длинных волос – как будто проверял, из чего они сделаны. Положил руки мне на грудь – так осторожно, словно грудь была хрустальная. Стал очень медленно расстегивать блузку. Под ней был белый открытый бюстгальтер, который тогда называли «Анжеликой» – такая специальная модель, высоко поднимавшая грудь, купленная по случаю за бешеные деньги – 25 рублей. В нем моя и без того не маленькая грудь казалась какой-то совсем порнографической – и одновременно почти произведением искусства. Я опустила глаза и посмотрела на нее как будто твоим взглядом. И, кажется, впервые ощутила, что грудь у меня и в самом деле красивая. У меня коленки дрожали и внизу живота все сжималось до острой боли – я не помню более эротического момента в моей жизни. Ты аккуратно и сосредоточенно накрыл ладонями обе груди и произнес почти как заклинание:
– Это всё слишком для меня, слишком. – Едва прикасаясь губами, ты поцеловал меня в каждую грудь несколько раз – тебе почти не пришлось наклоняться. Я стояла неподвижно. Не помню даже, подняла ли я руки, чтобы тебя обнять. По-моему, нет. Спросила:
– Что – слишком?
– Ты – слишком. Слишком красивая. Эта грудь. Эта кожа. Эти глаза. Эти волосы. Неужели это всё для меня?
И еще ты спросил:
– У тебя ведь есть кто-то, кому это принадлежит, да?
Секса у нас с тобой в тот день не было, да и не могло быть, потому что – ты был прав – я по-прежнему принадлежала бородатому философу, которого все называли Марковичем. Он, кстати, приехал в тот день и по-хозяйски увел меня, все еще дрожащую изнутри от твоих касаний. Эти бережные прикосновения ко мне как к драгоценному объекту, как к кукле наследника Тутти я никогда не забуду. Больше никто меня так не трогал. И даже ты больше никогда так не трогал.
10 апреля 2013
Почему мы с тобой никогда не вспоминали нашу первую ночь? Наш первый секс? Наше пьяное безумие, отчаянную ролевую игру? Дело было летом. С датами у меня плохо, но, наверное, это был девяностый год? Вокруг нас бушевала историческая буря, но почти все стерлось из памяти. Телевизор я смотрела мало, газет не читала, радио не слушала, интернета ни у кого не было.
Я жила в мире влюбленностей, доморощенной и книжной философии, разговоров с подругами о самом страшном и самом главном, книг и толстых журналов, учебы, фильмов, театра. За нашими спинами трещала по швам большая советская история, но я, увлеченная тем, как менялась моя маленькая жизнь, этим не интересовалась. Все происходящее в стране воспринималось как яркий, но далекий фон. Хотя, возможно, безумие, которое творилось с тобой и со мной, было отголоском этой прорвавшей плотину свободы.
В тот день мы оказались вместе – в компании с двумя британскими очкастыми историками кино, которых мы таскали по Питеру. С нами был юный московский журналист, чье имя выскользнуло из памяти, была твоя жена Катя и Костя Мурзенко, неотступно следовавший за тобой длинной носатой тенью. Где мы пили, куда и как перемещались – не помню. Помню, что мы решили разыграть московского юношу, притворившись, что не Катя, а я твоя жена. Катя, кажется, выдавала себя за иностранку, у нее всегда был отличный английский. Уже совершенно пьяные, мы оказались в чьей-то большой квартире на Пионерской, где я стала танцевать неистовый эротический танец в духе Жозефины Бейкер, о которой тогда и слыхом не слыхала. Москвич хватал меня за руки и все повторял, что я не должна так танцевать, что тебе, моему мужу, это больно и что нельзя заставлять тебя страдать. Сам он, одуревший от этой дикой пляски и от количества выпитого, уверял, что я самая порочная и самая сексуальная женщина на свете. Удивительным образом я, вся слепленная из комплексов, такой себя и чувствовала – и ничего не боялась. В какой-то момент ты утащил меня в спальню – помню, что кровать была отгорожена шкафом, но не помню, куда делась Катя, – и начал целовать и раздевать, совсем не так бережно, как в первый раз. Ты повторял:
– Ты ведь моя жена?
И я отвечала:
– Да, да, совсем твоя.
Ты не любил болтать в постели, но в ту ночь говорил много – и что-то застряло в моей памяти болезненными занозами. Тогда я узнала, что тебя заводят черные чулки и вообще красивое сексуальное белье. Как важны для тебя женские ноги и коленки – ты много сказал про мои ноги и мои узкие коленки, а я ведь совсем не считала их красивыми, совсем. Как для тебя важно, чтобы женщина в постели была не просто возлюбленной, но и эротическим объектом, персонажем твоих ярких и почти болезненных фантазий.
Чулки шлюхи помогали отстранить женщину, превратить ее в фетиш. Нежность и глубина чувств тебе мешали, нужна была доля анонимности. Любопытно, что в нашу первую ночь мой новый Сережа воспринял чулки как странную помеху. Одежда ему мешает, ему необходимы соприкосновение тел, обнаженность, взгляд глаза в глаза. После первого раза чулки я с ним больше не надевала, приняв условия игры. Вернее, поняв, что игра тут неуместна. Однажды я спросила Сережу о его подростковых эротических фантазиях, и неожиданно он сказал, что мечтал заняться любовью на свежевспаханной земле. На свежевспаханной земле! Он и вправду – с другого конца света. Антипод. Ну а нас с тобой возбуждали чулки, зеркала и шпильки. Какая уж там земля.
Ты был гибким, у тебя было тонкое, пропорциональное и сильное тело без капли лишнего жира. В сексе был резок, молчалив и неутомим. Но редко бывал нежен, редко бережен, не делал серьезных попыток понять мое сложное психофизическое устройство. Если, увлеченный яростной игрой, ты говорил в постели, то это был скорее dirty talk.
В ту ночь мы рвали мою одежду, мое белье, колготки – в этом не было наслаждения, а было какое-то почти трагическое отчаяние, попытка куда-то прорваться, до чего-то достучаться. Попытка бесплодная – я бездарно изображала оргазм, боясь задеть твои чувства или показаться неполноценной. Я не понимала тогда, что оргазм – это протяженные во времени судороги, мне казалось, что это мгновенное падение в пропасть. До двадцати пяти лет я ни разу его не испытала – тело и голова не умели существовать в унисон. Но ты, по-моему, ни о чем не догадывался.
Я не помню, как наступило утро, не помню, как мы в тот день расстались. Не помню, когда и где увиделись в следующий раз, кто кому позвонил. Я не любила вспоминать этот день, проведенный в чужой преждевременной роли – твоей жены. Мальчик-журналист, который уговаривал меня не рвать тебе сердце своими разнузданными плясками, примерно через год снова мимолетно появился в нашей жизни – в той жизни, где я была уже твоей настоящей женой. Он так и не понял, что мы прошли через роман, развод, брак. Для него мы по-прежнему были слегка сумасшедшей питерской парой.
Странной семьей Добротворских.С