По соотношению написанного им и написанного о нем Венедикт Ерофеев уже входит в очень избранную компанию вместе с Грибоедовым и Тютчевым: малословных и многославных. Только что в издательстве НЛО вышли две книги: Светлана Шнитман-МакМиллин. "Венедикт Ерофеев. "Москва — Петушки", или The rest is silence" и сборник "Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве", составители Олег Лекманов, Илья Симановский. В последнем есть и моя статья 1992 г. "После карнавала, или Обаяние энтропии" (вначале у нее был подзаголовок "Вечный Веничка").
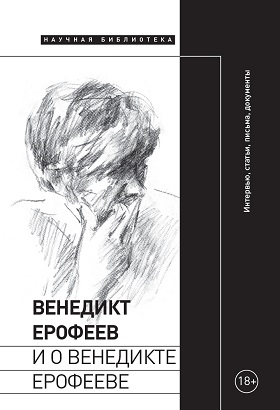
Должен признаться, что, когда я прочитал машинопись "Москвы - Петушков" в середине 1970-х, я не был особенно впечатлен: капустник и капустник. По-настоящему В.Е. меня заинтересовал, когда вышли воспоминания о нем ("Театр", 9,1991): уже не как автор, а как герой мифа, который он сам создал о себе. Возник вопрос: почему этот литературный миф так точно пришелся на свое время — и пережил его? Клод Леви-Строс рассматривает миф как инструмент опосредования фундаментальных противоречий (между жизнью и смертью, землею и небом, смехом и плачем и т. д.): "…Цель мифа — обеспечить логическую модель преодоления противоречия…". Вен. Ерофеев — это последний литературный миф советской эпохи, которая так легко завершилась вскоре после его кончины. Но какую же загадку разрешает Веня? Какие крайности примиряет? Приведу несколько отрывков из статьи.
...Венино коронное состоянье — не запой, а именно похмелье, деликатный и щепетильный отчет за все предыдущие запои, свои и чужие. Ему отвратительно всякое упоенье, хмельные экстазы, захлеб и надорванный ворот. В диалектике трезвости и пьянства высшая ступень — похмелье: отрицание отрицания. Выпивка — это способ сбить спесь с трезвого, который крепко стоит на ногах, говорит внятно и мерно, будто он вполне владеет своей душой и телом. Но остается еще гордыня пьяности, море по колено...
Сам Веня эту диалектику прекрасно понимал: "Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он сделается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот? — будет ли он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел". Такова эта хитрая диалектика. Веня сбивает и с себя, и с окружающих сначала трезвую, потом пьяную спесь. И добирается наконец до похмелья как состояния предельной кротости.
Отсюда и начинается собственно миф о Веничке — миф о непьяности, которую никак нельзя смешивать с пресной трезвостью. Трезвость — до, а непьяность — после. Трезвость гордынна и учительна, а непьяность кротка и понура. Трезвость может еще сама собою упиваться, а непьяность уже ничем не упивается. И это есть высшее состояние души, когда у нее меньше всего претензий и вообще воодушевленности мало, — малодушие.
Столетиями во всем мире прославлялась энергия, в самых разных ее проявлениях: кинетическая и потенциальная, энергия души и энергия тела, энергия коллектива и энергия индивида, энергия космическая и политическая… Энергию прославляли Галилей и Гете, Гегель и Маркс, Ницше и Фрейд, Фарадей и Эдисон, Эйнштейн и Форд... Энергия делала свое большое дело: кружила планеты, расщепляла атом, толкала конвейеры, производила сексуальную и научно-техническую революцию. Звезды кино, властители умов, акулы бизнеса, секс-бомбы, восточные гуру и спортивные чемпионы — все источали энергию и обаяние. Энергия распада и декаданса тоже была обаятельна.
И вдруг Веня сделал обаятельной убыль энергии. Энтропия в его лице приобрела милые сердцу черты: медлительность и неправильность. В стране всех освоенных видов энергии нашелся, наконец, человек, подавший увлекательный пример малодушия. Сумевший сделать интересной "энтропию" — воспользуюсь словом Бахтина, хотя ему самому, теоретику карнавала, энтропия была не интересна. Ерофеев сумел многих и многих убедить, что в эпоху сверхвысоких энергий есть особое достоинство в том, чтобы прибавить от себя в мир чуточку энтропии. Плеснуть энтропии в костер энергии. Проявить великодушие путем малодушия. "'Всеобщее малодушие' — да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства!"
Поэтому в обществе сидящих, стоящих и ходящих он всегда предпочитал лежать. Это был его способ замедлиться. Быть может, со временем ерофеевские тапочки станут столь же знаменитыми, как обломовский халат. Только Обломов был тучен и ленив, а Ерофеев строен и подвижен. Его вялость была продуктом работы над собой. Он по каплям выдавливал из себя энергию...
