
Недооцененные прелести секса
Продолжаем публикацию цикла «Зачем живые любят друг друга» о загадках размножения и других парадоксах биологии. Сегодня мы ищем ответ на вопрос «Зачем нужен мейоз?», и для этого понадобятся не одна, а сразу две главы
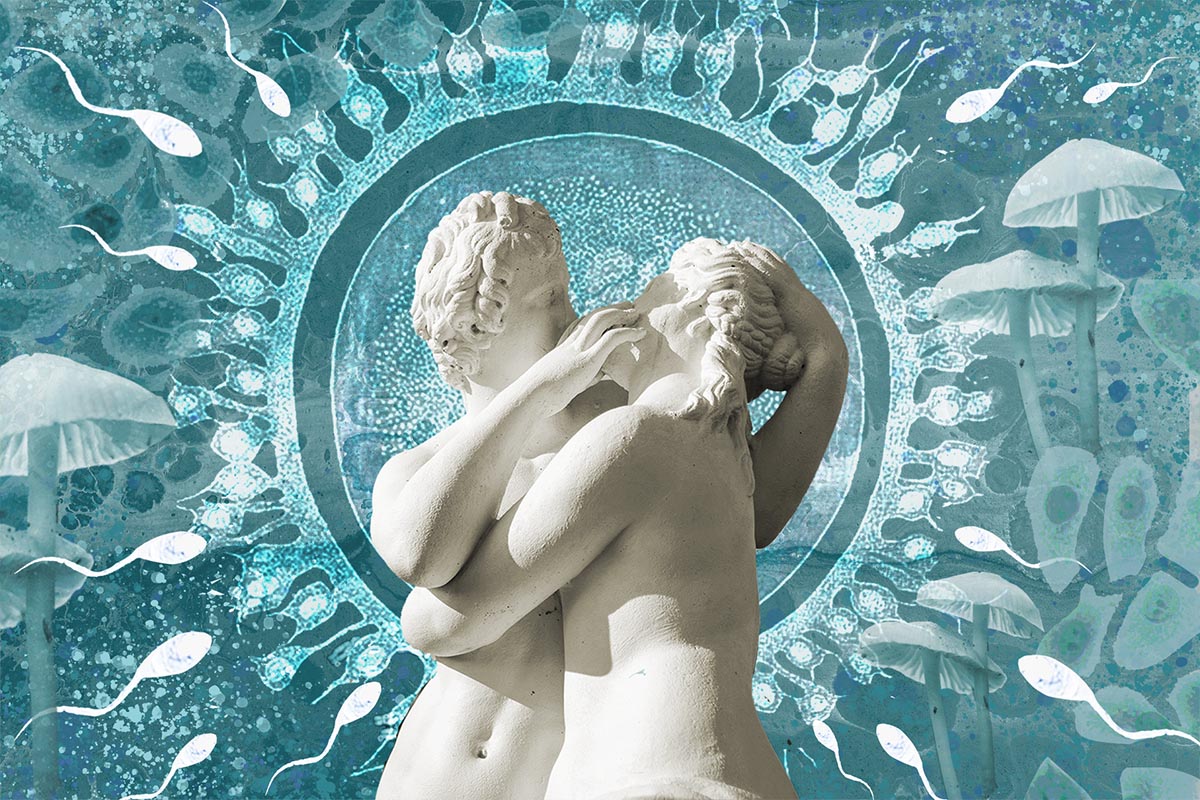
Предыдущую главу читайте здесь: Мужская безалаберность в сексе
Глава тридцать третья, внутри которой есть «интрон» — глава тридцать четвертая
О мейозе можно рассказывать бесконечно. Собственно, о чем угодно можно рассказывать бесконечно, и в любой большой застольной компании найдется зануда, который охотно демонстрирует этот фокус. Но нам в какой-то момент придется все же устремиться к финалу. Поэтому перейдем к главному вопросу: как мог появиться в природе такой прихотливый механизм?
Заметьте: поскольку без мейоза не бывает никакого полового размножения, это тот же самый вопрос, который мы мусолим с самого начала нашей истории: как мог появиться секс? Только теперь вместо сливающихся и разделяющихся по-новому обобщенных мешков с генами, столь милых сердцам теоретиков начала ХХ века, у нас есть изощренная машина с десятками важных деталей, и для убедительного ответа придется объяснить не только все вместе, но и каждую деталь. Конечно же, окончательного ответа у биологов пока нет: речь пойдет только о гипотезах.
Начать, наверное, удобнее вот с чего: что самое главное в мейозе? Там происходит сразу три важных дела, и так сразу не скажешь, какое из них главнее.
Во-первых, при мейозе происходит кроссинговер. Хромосомы обмениваются участками, обеспечивая ту самую перетасовку генов, с которой отцы-основатели генетики связывали необходимость секса: создаются новые комбинации, дающие материал для отбора, полезные и вредные мутации отделяются друг от друга, чтобы отбор имел возможность испытать каждую в отдельности, почистить геном от всего вредного и зафиксировать полезные приобретения.
Во-вторых, рекомбинация начинается с двойных разрывов в ДНК, и очень похоже на то, что «починка» молекул ДНК по образцу гомологичной последовательности — это и есть первичная задача рекомбинации, а уж перетасовка генов — просто дополнительный бонус. Возможно, и сам мейоз изначально сконструирован природой для решения этой задачи, а все остальные его особенности — просто полезные надстройки?
В-третьих, при мейозе число хромосом сокращается вдвое: геном превращается из диплоидного в гаплоидный. Может показаться, что это просто неизбежная техническая надстройка, однако это может быть важным и само по себе. В природе есть множество способов сделать из гаплоидного генома диплоидный: например, клетка удвоит свои хромосомы, а потом забудет поделиться. И как бы редко такое ни случалось, это билет в один конец: никакого способа вернуть число хромосом к норме не существовало бы… если бы не мейоз.
Долгое время большинство биологов по умолчанию предполагали, что самое главное в мейозе — наше «во-первых», то есть провозглашенное Августом Вейсманом создание новых комбинаций признаков, не дающее естественному отбору скучать. Однако взглянем без предвзятости на другие варианты.
Возможно, мейоз нужен для того, чтобы чинить ДНК?
Наверное, логично предположить, что в самом главном механизме мейоза должны быть задействованы самые древние, проверенные временем детали. Тут можно сразу вспомнить про белок RecA, он же RAD51, он же DMC1, — у разных организмов он называется по-разному, а у моего любимого грибка это вообще UvsC, то есть ген чувствительности к ультрафиолетовому излучению, однако структура этого белка на удивление схожа у всех трех главных ветвей земной жизни, бактерий, архей и эукариот. Ему помогает еще один отлично сохранившийся белок, который у бактерий называется Ssb — single strand binding. Наконец, Spo11, который начинает рекомбинацию, внося в молекулу ДНК двойной разрыв, — ближайший родственник бактериальных белков, которые называются «топоизомеразы».
Но что эти белки делают у бактерий? Их главная работа — починка повреждений ДНК. Каких именно? Например, разрывы в цепи ДНК: весь процесс рекомбинации устроен так, как будто починить двойные разрывы — это и есть его главная цель. Но вот более сложный случай: под действием радиации соседние буквы Т в ДНК (остатки тимина) соединились бессмысленной химической связью. Такую мерзость клетка из своей хромосомы безжалостно вырезает, нередко прихватывая и соседние буквы. А чтобы залатать брешь, опять же удобно воспользоваться последовательностью партнера. Наконец, есть и обычные мутации — замены одной буквы на другую, которые для клетки выглядят ничем не примечательно: она не знает заранее, правилен ли ее вариант текста, или, наоборот, хороший ген на хромосоме-партнере, а у нее закралась ошибка. Поправив одну из хроматид по образцу гомолога (а вторую оставив как есть), хромосома получает уверенность, что хотя бы у половины ее потомков все сложится хорошо.
При бактериальной «генетической трансформации», о которой шла речь в 26-й главе нашей истории, — когда бактерия вылавливает в окружающей среде кусочки ДНК и примеряет их в собственную хромосому — и речи нет о том, чтобы перетасовывать какие-то гены и образовывать новые комбинации признаков. Бактерия просто спасается от смертельной угрозы. И если вы хотите побудить бактерию заняться генетической трансформацией, нужно просто поставить ее в невыносимые условия, например, добавив в среду вещество, вызывающее повреждения ДНК.
Заметим, что похожим способом — подвергнув клетки стрессу, вызывающему повреждения ДНК, — можно заставить несложных эукариот, вроде дрожжей, перейти к мейозу и споруляции.
Итак, по этому критерию придется предположить, что наше «во-вторых» — то есть именно текущий ремонт ДНК, а не перетасовка генов и тем более не нормализация числа хромосом — самая древняя, а потому и самая главная функция мейоза. Именно она напрямую произошла от повседневных практик бактерий — трансформации и конъюгации, — когда о сексе в земной природе еще никто не помышлял.
На этой идее очень настаивают Кэрол и Харрис Бернстейн — удивительная семейная пара, чьи первые совместные статьи о починке повреждений ДНК появились более полувека назад. Кэрол и Харрис до сих пор работают в университете Аризоны и продолжают писать статьи вместе. Они утверждают, что если поискать что-то похожее на мейоз в мире безъядерных организмов, то первое, что бросается в глаза, — это некие интимные шуры-муры, происходящие между клетками архей в процессе обмена генами. В одной из глав я едва ли не в шутку упомянул, что мы с уважаемым читателем по существу археи — ну так вот, в том, что касается мейоза, в этой шутке может быть чуть больше правды, чем готовы сегодня признать большинство биологов (а может быть, и не больше: повторю, что речь идет всего лишь о гипотезах).
А ведь мы уже знаем, что наш предок — архея, вступившая в эндосимбиоз с бактерией и поселившая ее внутри своей клетки, превратив в митохондрию, — прошел в своей истории через трудный период, когда его геном едва выстоял перед натиском многочисленных мутаций. Логично предположить, что если секс нужен для починки ДНК, то вот тут-то отбор и заставил этого предка развить и усовершенствовать свои сексуальные практики, в результате чего появился примитивный мейоз.
Заметим, однако, что, если верить гипотезе Билла Мартина и Евгения Кунина (см. главу 24), эти мутации, атаковавшие нашего общего предка на заре истории жизни, были весьма специфического свойства. Это была атака эгоистичных мобильных элементов. Они внезапно выскочили из генома прирученной нашим предком бактерии, где до этого обитали в относительном мире и благополучии, и бросились портить геном археи, влезая в ее гены и нарушая их функции. Напомню, что от этих мобильных элементов, похоже, произошли интроны — вставочные последовательности ДНК, которые прерывают записанную в наших генах информацию и которые поэтому приходится вырезать перед тем, как синтезировать закодированный в гене белок. Огромное число интронов — главное отличие геномов высших организмов от бактерий и архей.
Конечно, во время атаки будущих интронов геном бедного предка понес самые разные повреждения, в том числе и точечные мутации, и разрывы в ДНК. Однако, наверное, самой частой проблемой было просто появление эгоистичного элемента там, где его раньше не было, например прямо в середине важного гена. Если гипотеза верна и мейоз нам понадобился именно в этот сложный момент, тогда, наверное, в нем могли сохраниться древние приспособления как раз для такого случая. Конечно, интроны нам больше ничем не грозят — все высшие организмы выработали себе изощренную механику, чтобы вырезать интроны из РНК и просто не обращать внимания на этот странный реликт древних времен, а то и использовать их себе на благо. Однако другие мобильные элементы по-прежнему существуют в наших геномах и иногда скачут с места на место, причиняя некоторые неудобства. Есть ли в нашем мейозе какие-то гаджеты, помогающие с ними сладить?
Тут нам придется прервать эту главу и вставить внутрь нее еще одну, прямо как интрон прерывает кодирующую последовательность гена. Ее в принципе можно пропустить и сразу читать дальше — это называется «сплайсинг», и именно так разделываются с интронами наши клетки. Потом можно вернуться к ней и прочитать теперь уже все подряд — это будет «альтернативный сплайсинг», благодаря которому наша клетка разнообразит варианты прочтения собственных генов. От этого клетка становится информационно богаче, чего я искренне желаю читателям.
Глава тридцать четвертая, в которой грибок нейроспора удивил биологов парадоксом Рассела
В конце 1990-х я сидел на одной конференции, слушал докладчика и думал: «Что за странная чепуха!» Эту мысль, видимо, думал не один я, потому что многие в аудитории перешептывались. А докладчик рассказывал об очень странном поведении некоторых признаков при скрещивании у грибка нейроспоры.
Нейроспора уже появлялась в нашей истории: у нее продукты мейоза, аскоспоры, очень удобно и в строгом порядке уложены в стручки-аски, по восемь спор в каждом. Если, например, скрестить грибок с темными спорами и грибок с белыми спорами, то в аске будут лежать четыре белых споры и четыре темных. Все по законам Менделя. Аскоспоры гаплоидные, поэтому какой цвет «доминантный», а какой «рецессивный», неважно. Но вообще-то, конечно, светлые споры следует считать рецессивным признаком, потому что в них соответствующий ген испорчен, а в темных спорах он работает. Если взять мутанта по цвету спор и вставить ему здоровый рабочий ген в другое место генома, то споры у него будут темные: ничего плюс кое-что в сумме дают кое-что.
Но наш докладчик рассказывал какую-то куда более странную историю. Речь шла о гене Asm-1, определяющем способность спор к созреванию. У мутантов по этому гену споры не темнеют и неспособны к прорастанию. Если скрестить мутанта с обычным диким грибом, все произойдет как обычно: из восьми спор в аске четыре будут темные и жизнеспособные, а четыре — светлые и никуда не годные. Однако это относится не ко всем мутантам. Среди мутантов Asm были такие, где ген не просто испорчен, а утрачен целиком — вместо него в геноме пустое место. И вот эти-то мутанты AsmΔ наотрез отказывались подчиняться Менделю. Все споры в скрещиваниях были белыми и нежизнеспособными, несмотря на то что в половине из них по идее должен быть здоровый ген от другого родителя. Мутация вела себя как доминантная, и это очень странно: не говоря уже о том, что споры гаплоидны, почему полное отсутствие гена плюс нормальный рабочий ген — ничего плюс кое-что — дают в сумме не кое-что, а ровным счетом ничего?
Дальше — хуже. В геном мутанта AsmΔ вставили здоровый ген Asm, но не в то место генома, где он должен быть, а в другое. Теперь в скрещивании с диким грибом у обоих партнеров был нужный ген, однако все споры по-прежнему были белые. Кое-что + кое-что = ничего. При этом и два диких гриба, и два мутанта в скрещиваниях производили совершенно нормальные споры.
Я помню, как во время этого доклада у меня возникла предательская капитулянтская мыслишка: «Со временем мы узнаем правду». Другими словами, проще не напрягать голову, а сразу заглянуть в ответ — дождаться, когда эти нейроспорщики разберутся, что там на самом деле происходит.
«Эти нейроспорщики» — ныне покойный Боб Метценберг и его тогдашний постдок Родольфо Арамайо — действительно вскоре во всем разобрались, открыв ранее неизвестный биологический процесс. В нашу историю он попал потому, что процесс этот — сначала его назвали «трансвекцией», а потом переименовали в «мейотическое глушение неспаренной ДНК» (MSUD) — неразрывно связан с мейозом. Суть в том, что, если в начале мейоза ген не находит свою пару на гомологичной хромосоме, он принудительно выключается. Более того, если в геноме есть другие копии этого гена, то выключаются и они. Именно это и происходило в описанных скрещиваниях: в мутанте AsmΔ на месте гена Asm ничего нет, а потому здоровая копия гена у другого родителя подлежит «глушению». И даже если вставить здоровую копию гена в другое место — да сколько хочешь таких копий вставляй, — ничего не изменится, все они будут исправно заглушены.
Остается два вопроса: «как» и «зачем». Начнем с «как». Оказалось, что в процессе участвует двухцепочечная РНК — этот механизм регуляции работы генов уже встречался в нашей истории, когда мы обсуждали борьбу генов дрозофилы против зловредных «мейотических драйверов», пытающихся исказить соотношение полов в потомстве. Когда клетка обнаруживает, что при спаривании гомологичных хромосом напротив одного из генов ничего нет — то есть ген остался неспаренным, — она срочно изготавливает двухцепочечную РНК с точно такой же последовательностью нуклеотидов, как у бедолаги-гена. Эта РНК несет повсюду сигнал: «Если встретите что-то похожее, безжалостно уничтожайте!» В результате все копии гена, рассеянные по геному, будут заглушены. Оказалось, что механизм MSUD способен глушить не только гены, которые работают в аскоспорах, — в той или иной степени он эффективен против почти всех не спаренных в мейозе последовательностей ДНК.
И вот интересная деталь. Чтобы все это происходило, грибку нужен ген по имени Sad («супрессор доминирования в асках»). Для самых серьезных читателей укажем, что он кодирует «РНК-зависимую РНК-полимеразу» — фермент, который достраивает одноцепочечную РНК до двухцепочечной. У мутантов по этому гену никакого глушения не происходит: скрещивание AsmΔ х Asm+ дает вполне обычный менделевский результат 4:4. А что будет, если один из родителей несет такую мутацию в гене Sad, при которой весь ген начисто вырезан, то есть при мейозе он сам оказывается неспаренным? Выяснилось, ген Sad прекрасно может глушить сам себя: в таких скрещиваниях механизм MSUD перестает работать. То есть никакого глушения не наблюдается. Но если глушения больше нет, кто же тогда заглушил ген Sad?
В переписке с Бобом Метценбергом французский генетик Клаудио Скадзоккио* вспомнил по этому поводу парадокс Бертрана Рассела: «Цирюльник бреет тех жителей деревни, кто не бреется сам. Кто бреет цирюльника?» Цирюльник не может брить себя сам, потому что тех, кто бреет себя сам, цирюльник не бреет согласно условиям задачи. Но если он не бреет себя сам, то по тем же условиям задачи его просто обязан брить цирюльник… то есть он сам.
Решение парадокса с цирюльником оказалось куда менее интересным, чем сам парадокс: просто MSUD — это количественный эффект, и для глушения самого себя гену Sad нужно меньше стараться, чем для большинства остальных генов, подлежащих заглушке. Как выразился индийский генетик Дургадас Касбекар, цирюльник бреет себя сам, но так небрежно, что можно назвать это не бритьем, а триммингом. Тем самым парадокс Рассела преодолен.
Это был долгий ответ на вопрос «как». Теперь вопрос «зачем». MSUD глушит гены, которые есть только на одной из гомологичных хромосом, а на второй их нет. В природе такая ситуация чаще всего возникает в том случае, если у одного из родителей какой-то мобильный элемент только что совершил очередной прыжок, переместившись на новое место в геноме. Тут клетке вполне естественно заглушить не только самого дерзкого выскочку, но и всех его родственников, рассеянных по геному, потому под глушение и попадают все копии гена, где бы они ни находились.
Интересно, что у нейроспоры и многих других грибов есть еще одно оружие против прыгающих элементов, открытое значительно раньше. Это механизм RIP («точечные мутации, индуцированные повторами»), который специально портит мутациями всё, что присутствует в геноме больше чем в одной копии. Вообще для грибов очень нетипично иметь много копий генов, и потому такой способ, наверное, будет эффективным, если какой-то прыгающий паразит (мобильный элемент, которые часто называют транспозонами) внедрится в геном и размножится. И вот что важно: механизм RIP тоже привязан к мейозу.
Мы тут немножко зациклились на грибах, и это понятно: грибы считаются «примитивными» эукариотами, и если где-то искать реликты древних эпох, когда общий предок сложных организмов вступил в схватку с мобильными элементами, то, наверное, у них. Однако «антитранспозонные» приспособления встроены в мейоз очень многих организмов. Если говорить о MSUD, это приспособление было открыто у нейроспоры, однако подобный механизм, вероятно, существует не только у грибов. Не так давно нечто очень похожее нашли у червяка C. elegans. А сам Боб Метценберг полагал — и даже приводил в пользу этого серьезные аргументы, — что подобный механизм существует и у позвоночных, включая человека. При этом совершенно точно установлено, что у позвоночных (например, мышей) действуют сразу несколько независимых механизмов «заглушки» транспозонов. Они тоже привязаны к мейозу, причем зашиты в него настолько глубоко, что при их отключении клетка просто не может продолжать мейоз — все останавливается, и клетку ожидает программируемая смерть.
Мораль этой вставной главы в том, что мейоз не просто нужен для починки ДНК — в нем предусмотрены особые механизмы, которые эффективны против весьма специфического типа повреждений. Мейоз — оружие против транспозонов. Это, конечно, ничего не доказывает, но заставляет задуматься. Идея о том, что мейоз и половое размножение возникли у общего предка сложных организмов в тот период, когда он подвергся особенно злой и затяжной атаке мобильных элементов, с каждым новым открытием кажется все более привлекательной.
Окончание главы тридцать третьей, в котором мейоз может оказаться защитой от изнасилования
Итак, согласно одной из гипотез, мейоз нужен главным образом затем, чтобы чинить повреждения в ДНК и держать в узде мобильные элементы. Гипотеза выглядит совершенно неотразимой, но это потому, что мы еще не обдумали остальные варианты.
А может быть, главное в мейозе — уменьшение числа хромосом вдвое?
Уменьшать вдвое число хромосом клетке приходится из-за того, что в ходе полового процесса, то есть секса, сливаются две гаплоидные гаметы. У нас, людей, как и у большинства растений и животных, с этим принято не спешить: мы проживаем свои единственные жизни в диплоидном состоянии и делаемся гаплоидами только ради следующего раунда полового размножения. Однако интересное правило состоит в том, что чем проще и примитивнее устроен организм, тем быстрее у него мейоз следует за слиянием клеток. Создается впечатление, что по изначальной задумке это была экстренная мера: «Ах, караул, я случайно стал диплоидом, надо срочно что-то с этим делать!»
При этом само половое размножение тут совсем не обязательно. Вспомним, что те же самые грибы, о которых мы тут не раз вспоминали в силу личных пристрастий автора, иногда становятся диплоидными просто так, без всякого прицела на секс. Сиюминутная выгода объединения клеток и ядер очевидна: какие бы вредные мутации в них ни присутствовали, при слиянии двух геномов каждую вредную мутацию «прикрывает» (или, выражаясь по-научному, комплементирует) здоровая копия гена от другого партнера. Таким образом, проблема временно решена. Однако решение это недальновидное. Теперь, когда каждый (а не только испорченный мутацией) ген присутствует в двух копиях, отбор уже не в силах помешать и всем остальным генам накапливать мутации, пока и в остальных парах не останется только по одному здоровому гену. После этого следующая же мутация опять создаст проблему, которую можно будет снова решить путем слияния клеток, — добавив к своим двум еще один геном. Если бы не «редукционное деление» мейоза, так бы и раздувались наши ядра от новых и новых наборов хромосом. Заметим, что это не такой уж фантастический сценарий: у симпатичной садовой «ромашки», она же поповник, по идее должно быть 18 хромосом — но может быть 36, 54 и, говорят, даже 198. Так что, даже если мейоз был бы нужен только для этого, у него определенно хватало бы работы.
При мейозе похожие хромосомы насильно разлучаются и отправляются в разные клетки для последующей раздельной проверки отбором. В гаплоидном организме вредная мутация уже не может спрятаться за здоровой копией гена в гомологичной хромосоме, и отбор ее выметает. Здесь, конечно, не очень понятно, что может заставить организмы специально проверять свои гены на скрытые вредные мутации: если все и так работает, ничто не подталкивает их к подобному решительному шагу, а задумываться о будущем эволюция не привыкла. Заметим, однако, что в искусственном отборе — в селекции культурных растений — гаплоидизация применяется как раз с далеко идущими планами. Так, например, у обычной картошки селекционеры иногда получают «дигаплоид» — организм с двумя наборами хромосом от столь разных родителей, что диплоидом его считать никак не возможно. Впервые это сделала советский селекционер Е. В. Ивановская в 1939 году. У потомков такого скрещивания скрытые (рецессивные) мутации уже не могут спрятаться от отбора. Потом остается только восстановить нормальное число хромосом новым скрещиванием и получить картошку невиданной красоты и силы.
Итак, гипотеза: клетке надо вернуть число своих хромосом к норме, и для этого она завела себе мейоз. Напомним, что речь идет не о какой-нибудь клетке, а о прародителе всех сложных организмов, важнейшее событие в жизни которого, как следует из гипотезы Мартина и Кунина, — отражение массированной атаки мобильных элементов. Как эта атака может быть связана с увеличением числа хромосомных наборов? Вот одна идейка: в 25-й главе мы уже обсуждали, что белки фузексины, помогающие слиянию двух клеток, могли изначально быть частью вооружения эгоистичного мобильного элемента. Мобильному элементу выгодно побуждать клетки к слиянию: так он может распространиться по еще одному геному. Клетке надо как-то этому противостоять: как только случилось нежеланное слияние, она торопится сделать всё как было, то есть вновь стать гаплоидной, и это и есть мейоз. Смотрите, как интересно получается: если верить этой гипотезе, наши предки вовсе не хотели секса, их к этому просто вынудили. Изначально они пытались с помощью мейоза минимизировать вредные последствия, и лишь затем постепенно научились находить в этом занятии хорошие стороны.
В общем, мейоз вполне может быть нужен еще и для того, чтобы не давать клетке завести себе много копий хромосом. Если взглянуть на него с этой стороны, все в нем выглядит удивительно стройно и целесообразно: сперва мы сравниваем последовательности хромосом, и если найдем совпадающие, то укладываем их вдоль друг дружки, а потом разносим по разным клеткам. Рекомбинация в этом сценарии нужна главным образом для того, чтобы быстро и эффективно найти гомологов, а еще, конечно, благодаря ей образуются хиазмы, позволяющие в первом делении мейоза натянуть как следует нити веретена. Итог мейоза — возвращение числа хромосом к норме. Какая была бы прекрасная гипотеза, если бы не было других!
Или, действительно, правы классики — мейоз нужен для того, чтобы перемешивать гены?
Ну и наконец классический сценарий. Согласно ему, главное в мейозе — перетасовка генов и создание их новых комбинаций. Надо сказать, что по сравнению с другими эта идея — которую генетики долгие годы принимали практически без обсуждения — выглядит довольно экзотичной. Ну правда, неужели от этого перетряхивания геномов может быть настолько большая польза, чтобы уравновесить «двойную цену» (кстати, сейчас нередко говорят о «двойной цене мейоза» вместо довольно расплывчатой «двойной цены секса»)?! Неужели это важнее, чем содержать в порядке свою ДНК и сохранять из поколения в поколение оптимальное число хромосом?
Однако не зря же всю первую часть книги мы рассуждали о моделях, призванных объяснить, как преимущества полового размножения способны создать достаточное давление отбора, чтобы заставить организмы раскошелиться на эту самую двойную цену. Напомним, что хотя окончательный ответ и не найден, во многих предложенных моделях все сходится: в некоторых случаях перетасовка генов может оказаться жизненно важной адаптацией. Если верны теории, о которых шла речь в первой части, без этого процесса жизнь на планете была бы обречена на мутационную катастрофу и вырождение — или, для разнообразия, на уничтожение паразитами, которые затем уничтожились бы сами. Вот и всё, конец истории. Тем не менее мы живы. Ну чем не оправдание необходимости мейоза?
Итак, «поиски главного» в мейозе завели нас в тупик. Зайдем с другого конца: какая часть мейоза была тем самым решительным эволюционным шагом, после которого он обрел свою классическую форму, чтобы в таком виде распространиться по всем ветвям древа сложной жизни? Об этом в следующей главе.
* Примечание. Клаудио Скадзоккио — ныне вышедший на покой и иногда читающий лекции в лондонском Империал-колледже, а в те годы профессор университета Пари-Зюд, что в Орсее под Парижем — одна из самых колоритных фигур в генетике грибов. Небольшого рода, с окладистой курчавой бородой, сильно напоминающий Карла Маркса, он обычно появлялся на конференциях в окружении тающих от обожания аспиранток — по большей части брюнеток модельной внешности, ростом под метр восемьдесят. Клаудио говорил с ними исключительно на испанском. Он родился в семье итальянских евреев, которая в самом начале Второй мировой войны эмигрировала в Аргентину. Клаудио, свободно говорящий на французском, английском и итальянском, всегда отдавал предпочтение испанскому языку. Именно на нем он, по слухам, в свободное от науки время писал романы фривольно-романтического содержания, которые публиковались на его второй родине, в Латинской Америке. Эрудиция Клаудио в вопросах генетики грибов совершенно беспрецедентна: вероятно, он знает о грибах все и всегда был готов разъяснить какую-нибудь особенно заковыристую хитрость незадачливому постдоку.