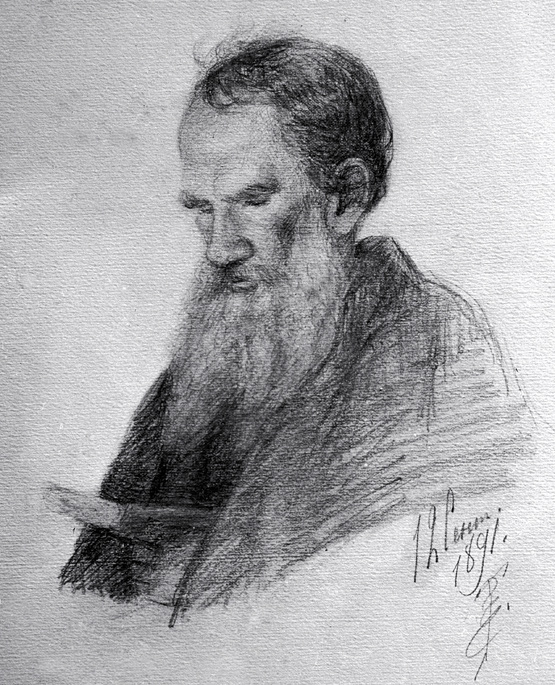Призрак Сен-Тома
Летом 1835 года на пристань Кронштадта сошел 22-летний мужчина, белокурый, невысокого роста, крепкого телосложения. Его звали Проспер Шарль Антуан Тома, но скоро в его паспорте, выданном в Петербурге, стояло отчество «Антонович». Он был одним из тысячной армии французов, приехавших покорять Россию гувернерами и учителями французского языка, в которых нуждалась городская знать и провинциальные помещики.
Впрочем, у Проспера Антоновича были и более амбициозные планы. Он мечтал путешествовать по России, изучать ее нравы, песни, костюмы, народ и дворянство. Это был умный, даровитый молодой человек, знавший, кроме родного языка, немецкий и латынь, но совершенно не говоривший по-русски. Однако не пройдет и года, как и этим языком Тома овладеет в совершенстве.
Но ни тогда, в 1835 году, ни гораздо позже, в сороковые годы, когда, вернувшись на родину, он писал свои «Воспоминания о России» (Souvenirs de Russie), ему и в голову не могло прийти, что именно ему суждено стоять у истоков возникновения в России направления «толстовцев» и косвенно повлиять на ход русского революционного движения. И всё благодаря тому, что между путешествиями в Киев и в Казань он послужил гувернером в двух домах русских аристократов — Толстых и Милютиных. Насколько сам Тома не придавал серьезного значения этой своей работе, можно судить по тому, что в его мемуарах ни Толстые, ни Милютины даже ни разу не упомянуты. Для него это была просто «работа».
Тем более не могло ему прийти в голову, что он окажется одним из центральных героев первого шедевра русского литературного гения — Льва Толстого. До сих пор неизвестно, успел ли Проспер Тома, который скончался в швейцарском городе Ремиремоне в 1880 году, прочитать французский перевод «Детства» Толстого, который впервые вышел в очень влиятельном парижском журнале Revue des deux mondes в 1863 году. Мы точно знаем, что Лев Толстой внимательно следил за этим журналом — но вот Тома?
Он родился 25 декабря 1812 года в маленьком французском городке Эпинале. Его появление на свет совпало с бегством армии Наполеона из России — почти день в день. 14 декабря 30-тысячный остаток французской армии переходил реку Неман, оставляя за собой великое множество замерзших трупов, а 21 декабря М. И. Кутузов поздравлял нашу армию с полной победой.
Тома принадлежал к тем французам, которые исповедовали культ Наполеона. Он всегда помнил о поражении великой армии и ее бесславном отступлении из России. Зимой 1835 года, направляясь в Киев, он застрял на лошадях в пути, в двадцати верстах от Могилева, и вспоминал о «солдатах, возвращавшихся в 1812 году после Москвы». Он, «хотя и укрытый шубами», хорошо «понял все страдания и ужас положения» этих солдат. Он представлял себе, как «обессиленные от голода и холода люди, опустив голову, с хмурым безжизненным взглядом бредут к цели, достичь которой нет надежды» (Prosper Thomas. Souvenirs de Russie. – Epinal: Gley, 1844).
Его взгляд на Россию и русских в воспоминаниях не лишен любознательности и меткости суждений, что отметила А. Н. Полосина в двух публикациях, посвященных Сен-Тома[1] в «Толстовском ежегоднике» (2001, 2002). Например, он пишет, что «Россия погрязла в коррупции... в судах нет честных чиновников... Гангрена коррупции и взяточничества распространена среди всех государственных чинов, начиная с низшего ранга до самого высшего. Суды — одна из самых нездоровых структур империи. Горе тому, кто не знает, сколько ступеней необходимо пройти в кабинетах русских чиновников, чтобы добиться чего-либо по прошению!.. Средства, используемые некоторыми чиновниками для того, чтобы на их головы сыпалась манна небесная в виде взяток, часто напоминают трюки самых изощренных французских ярмарочных воров».
В Кронштадте ему бросается в глаза отношение начальников к подчиненным: юноша офицер не ответил на приветствие матроса-ветерана. «Мне объяснили, что великан — это простой матрос, а юноша — офицер, один — господин, другой — раб. Вот когда я осознал весь ужас социального рабства. Русское солнце померкло в моих глазах», — пишет Сен-Тома о самом первом впечатлении от России. Оно вызывает сложное чувство, потому что всё это, разумеется, правда, но — такая, которую он искал в России, где солнце померкло в его глазах, как только он ступил на ее берег.
Впоследствии, пытаясь разобраться в том, почему французский гувернер вызвал в нем такую сильную антипатию, Толстой писал: «Он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Всё это мне очень не нравилось». Тома, считал Толстой, «любил драпироваться в роль наставника», «увлекался своим величием». «Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слоге, accent circonflèxe'ми, были для меня невыразимо противны».
Кого-кого, а Толстого невозможно заподозрить во франкофобии. Он горячо любил Францию, ее язык, ее философию и литературу. Никто из зарубежных писателей не оказал такого прямого влияния на автора «Войны и мира», как Стендаль. Своим детям он вслух читал Жюля Верна, и дети Толстого искренне считали, что великий писатель — это Жюль Верн, а папá... просто писатель. Два его любимейших философа — Руссо и Паскаль. В старости Толстой признавался, что часто думает по-французски, потому что на этом языке ему лучше формулировать свои мысли.
Тем не менее это факт: единственный человек, который нанес ему в отрочестве неисцелимую душевную травму, был не просто французом, но французом «в высшей степени». И вот что примечательно. На остальных братьев Толстых Сен-Тома не произвел такого впечатления. Старшие братья, Николенька и Сережа, искренне полюбили Сен-Тома, слушались его беспрекословно, состояли с ним в переписке и т. д. Нам неизвестны конфликты между старшими братьями и их французским гувернером.
Сен-Тома мог гордиться своим французским происхождением, но уж никак не родовитостью. Тома был незаконным сыном унтер-офицера. Отец официально признал его в 18-летнем возрасте. К тому времени юноша уже закончил колледж с похвальным листом. И вот в Москве он поступает старшим учителем в семьи родовитых русских аристократов, не просто получая власть над их детьми, но оговаривая по контракту.
К Толстым он приходит в то время, когда вслед за матерью братья потеряли еще и отца. Больше того, приход в семью француза не просто совпадает со смертью Николая Ильича, но и в значительной степени вызван этой смертью. До кончины Николая Ильича Толстого Сен-Тома был просто приходящим учителем французского. Он всем в доме понравился. Лев Толстой пишет в конспекте «Воспоминаний», что он тоже сначала испытывал «увлечение культурностью и аккуратностью Сен-Тома».
О том, что Тома был явно незаурядным молодым человеком или, как сказали бы сегодня, «харизматичной» фигурой, мы можем судить по тому, что, приплыв в Россию летом 1835 года никому не известной личностью, он зимой отправляется в Киев и сразу же получает место секретаря графа В. В. Левашова, тогда Черниговского, Полтавского и Харьковского генерал-губернатора. Василий Васильевич Левашов был приближенным Николая I и героем войны 1812 года, пройдя ее до Парижа. Но, как и Сен-Тома, он был незаконнорожденным, внебрачным сыном обер-егермейстера. Свой графский титул он получил лишь в 1833 году за особые заслуги и тогда же стал генералом от кавалерии. Такие общие горькие детали в биографиях нередко сближают людей самых разных. Тем не менее, когда граф Левашов покинул Киев (в 1838 году он стал членом Государственного совета, а через десять лет — его председателем), Сен-Тома он с собой не взял, и уже в 1836 году француз оказался в Москве, поступив старшим гувернером в дом Милютиных.
Тома умел нравиться людям. Он понравился бабушке Толстых Пелагее Николаевне. По ее инициативе он и был приглашен в дом, который лишился мужского руководства, на постоянное жительство. В его лице бабушка нашла замену другому гувернеру — немцу Федору Ивановичу Рёсселю, так любовно описанному Толстым в «Детстве» и «Отрочестве» под именем Карла Ивановича Мейера. Федор Иванович Рёссель был полностью обрусевший немец, добряк и пьяница, сохранивший свои немецкие черты, скорее, как некий атавизм, над которым Толстые добродушно посмеивались. О нем нельзя было сказать, что он «в высшей степени немец». Его воспоминания о жизни в Германии, о службе в армии во время войны с Наполеоном, о мытарствах во французском плену были горькими и трогательными; они до такой степени запали в душу маленького Толстого, что в будущем он посвятил им в «Отрочестве» целых три главы под общим названием «История Карла Ивановича». И то, что «Детство» начинается с пробуждения Николеньки от щекотки Карла Ивановича, говорит само за себя. Рёссель в глазах Толстого выступает очевидным антиподом Сен-Тома. Сен-Тома — «в высшей степени француз», если не презирающий Россию, то все-таки смотрящий на нее сверху вниз. Рёссель — немец с уже оборванными немецкими корнями. В Германии ему делать нечего. Россия стала его родной страной («стороной»). И даже не просто Россия, но именно Ясная Поляна. Дети Толстых стали его родными детьми, без которых он не может жить. В конце концов он и умер в Ясной Поляне, и похоронен на кладбище близ семейного захоронения Толстых.
Но если противостояние Рёсселя и Сен-Тома очевидно, то куда менее очевидно другое противостояние — Сен-Тома и отца. Карл Иванович в «Отрочестве» откровенно дуется на бабушку за то, что его выгоняют из дома ради «француза». В «Отрочестве» Сен-Тома, как и Рёссель, переименован — в St.-Jérôme. По мнению бабушки, St.-Jérôme «по крайней мере, gouverneur, который поймет, как нужно вести des enfants de bonne maison[2], а не простой menin, дядька, который годен только на то, чтобы водить их гулять». Вот, собственно, в двух словах и вся разница между Рёсселем и Сен-Тома. Первый — «дядька», второй — gouverneur. Но куда более сложным является разница между Тома и отцом.
В «Отрочестве» отец приглашает француза в дом под давлением бабушки, своей матери. Одновременное присутствие в доме двух сильных мужчин, один из которых к тому же хозяин, а второй — всего лишь нанятый работник, ослабляет подлинную коллизию, которая происходила в реальности. Сен-Тома стал руководить детьми Толстых после смерти Николая Ильича в 1837 году. Разумеется, он не заменял им отца. Но степень его влияния на мальчиков в семье, оставшейся без мужского руководства, вырастала в очень значительной мере. А то, что с приходом француза из дома убрали еще и «дядьку», возвышало его на недосягаемую высоту. Но самое главное, что в отличие от Рёсселя Сен-Тома заранее позаботился о том, чтобы его авторитет был непререкаемым.
Сохранилось письмо Сен-Тома к Пелагее Николаевне, в котором он оговаривал условия своей работы: отдельная комната, слуга, 1500 рублей в год ассигнациями, уплачиваемыми поквартально, жизнь в Москве зимой и летом (на лето Толстые выезжали в Ясную Поляну). Но самое важное место в письме то, где он требует фактически неограниченной власти над детьми, исключая лишь возможность физического наказания: «Чтобы меня боялись и слушались, я должен иметь полную власть и неоспоримый авторитет в такой мере, чтобы при словах: “об этом будет сообщено господину Сен-Тома” — восстанавливался порядок».
Это условие и стало камнем преткновения между Сен-Тома и Львом Толстым.
Все-таки его недаром назвали Львом! Единственный из мальчиков он взбунтовался против Сен-Тома. Причем изначальной причиной этого бунта стал не «в высшей степени» француз, но «в высшей степени» строптивый барчонок.
Вопреки правилам не бить детей, принятым в семье Толстых, Рёссель поколачивал-таки их. Не розгами, упаси Бог, а линейками и помочами от брюк. Как-то отхлестал Льва пучком вербы, да еще и освященной в Вербное воскресенье. Но почему-то это не вызвало во Льве той ненависти, которую вызывал Сен-Тома (глава о нем так и называется «Ненависть»). Толстой описывает случай, как отец больно взял его за ухо и крутил его, но это тоже не только не породило в нем ненависти, но даже обиды не вызвало. Между тем у Толстого и в детстве, и всю жизнь была повышенная тактильная чувствительность. Всякое соприкосновение с внешним миром переживалось им гораздо острее, чем обычными людьми. Можно сказать, что он «кожей чувствовал» внешний мир.
В детстве это были, как правило, приятные переживания. «С особой нежностью» он целовал «белую жилистую руку отца» и был «умиленно счастлив», когда отец ласкал его. Свою любимую охотничью собаку Милку «с прекрасными черными глазами» он тоже с особой нежностью целовал в морду.
Но и на всю жизнь запомнил, как няня за пролитый на скатерть квас наказала его: поймала и, несмотря на «отчаянное сопротивление», начала возить этой мокрой скатертью по его лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей!» И пучок вербы запомнил, и даже то, что от вербы отпадали «шишечки».
Но почему-то это не воспринималось как насилие, которые вызывает «ужас и отвращение».
«Ужас и отвращение» вызвал один Сен-Тома. И вызвал только в одном человеке — Льве.
Когда Рёссель, едва сдерживая слезы от обиды, передавал Сен-Тома детей с рук на руки, он сказал: «Пожалуйста, любите и ласкайте их. Вы всё сделаете лаской».
При этом немец особо заметил, что у Льва «слишком доброе сердце, с ним ничего не сделаешь страхом, а всё можно сделать через ласку». На это Сен-Тома возразил: «Поверьте, mein Herr, что я сумею найти орудие, которое заставит их повиноваться», — и при этом посмотрел именно на Льва. «Но, должно быть, в том взгляде, который я остановил на нем в эту минуту, не было ничего приятного, потому что он нахмурился и отвернулся».
Одно из «орудий» наказания, которое употреблял Сен-Тома, — он ставил провинившегося мальчика перед собой на колени и заставлял его просить у себя прощения. При этом гувернер, «выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал: A genoux, mauvais Sujet!»[3]
Но именно этого и не получалось со Львом. Он, терпевший наказания не только от отца, но от «дядьки» и от крепостной няньки, не соглашался с унижением.
Однажды Сен-Тома все-таки силой заставил Льва встать на колени, согнувши его спину.
Мальчик этого не забыл. Как-то у Толстых был семейный вечер. Дети, как водится, «бесились» в своей комнате. Вдруг пришел гувернер и сказал Льву, что, поскольку он утром плохо отвечал урок, он не имеет права на веселье и должен уйти. Лев не только не исполнил приказ, но отвечал Тома дерзостью на глазах у остальных детей. Француз пришел в бешенство! «C'est bien, я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что кроме розог вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили».
Итак, речь шла о том единственном способе воздействия на детей, который употреблялся в большинстве дворянских семей, но который в семье Толстых был вне закона. Перед тем как вступить в свои права, в письме к Пелагее Николаевне Сен-Тома обещал, что он никогда не позволит себе прибегнуть к физическому наказанию детей, и уверял, что «с помощью Бога, отца сирот» он без розог достигнет успеха. Кстати, слово «Бог» часто встречается в этом письме, хотя едва ли Сен-Тома был чрезмерно набожным, как... и Пелагея Николаевна. Скорее, это следует отнести на счет его «фразерства», которое не понравилось Льву. С раннего детства у него было исключительное чутье на фальшь, как и у всех Толстых.
Несмотря на сопротивление, Сен-Тома отвел его в чулан и запер на замок, пообещав приготовить розги. Он не осмелился привести приговор в исполнение, но те часы, которые Лев провел в чулане в ожидании наказания, он запомнил навсегда: «...Я испытал ужасное чувство негодования, возмущения и отвращения не только к Thomas, но и к тому насилию, которое он хотел употребить надо мной, — впоследствии вспоминал Толстой. — Едва ли этот случай не был причиною того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое испытываю всю свою жизнь».
Находясь в чулане, Лёвочка перебирал в голове различные способы мести Сен-Тома. Вдруг ему пришла мысль «о несправедливости Провидения»: «Я, кажется, не забывал молиться утром и вечером, так за что же я страдаю? Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь».
Предположим, это была поздняя натяжка. «Отрочество» писалось 15 лет спустя после события. Но вот что интересно. Среди детей, приглашенных в дом Толстых на торжество, почти наверняка был Владимир Милютин, сверстник Льва, которого всегда приводили к Толстым на праздники. Его старший брат Дмитрий Александрович Милютин потом служил министром военных дел при Александре II. (Именно он не передал царю просьбу о помиловании солдата Шабунина.) А младший Владимир станет одним из ярких деятелей российского либерализма, статью которого «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» оценил еще В. Г. Белинский. Это был тот самый Владимир Милютин, который упомянут в «Исповеди» Толстого под именем Володеньки М.: «Помню, что когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам в воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что всё, чему нас учат, одни выдумки. (Это было в 1838 году.) Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью, позвали меня на совет, и мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное».
Это был тот самый Володя Милютин, который стал первым русским подопечным Сен-Тома. Именно от Милютиных француза переманила в свой дом Пелагея Николаевна, посулив более щедрое жалование. Но и уйдя к Толстым в гувернеры, Тома продолжал быть приходящим учителем Володи Милютина.
Сен-Тома все-таки был хорошим учителем и гувернером. Поэтому на него и возникла конкуренция в московских барских домах. Он не только учил французскому языку и латыни, но и приучал своих подопечных к порядку. Все отмечали, что с его приходом комнаты мальчиков стали выглядеть аккуратней. Он заботился об их физическом развитии. В частности, водил старших Николая и Сергея в Манеж заниматься гимнастикой и обучаться конной езде. Это детям очень понравилось. Одним из страшных наказаний было временное запрещение посещать Манеж.
Сен-Тома был единственным из учителей, кто разглядел во Льве его писательские способности и горячо советовал развивать их. Он высоко оценил стихотворные опыты Льва и говорил: «Этот малыш — голова, это маленький Мольер».
В поздние годы Толстой иначе относился к Сен-Тома, вспоминая о нем даже с благодарностью. В 1894 году через знакомого французского писателя и переводчика Жюля Легра он пытался найти след Сен-Тома во Франции, но не нашел.
Тем не менее впечатление от своего первого заточения и ожидания порки так повлияло на Толстого, что и в 1896 году он пишет: «Жив, сейчас вечер, 5-й час. Лежу и не могу заснуть. Сердце болит. Измучен. Слышу в окно, играют в теннис, смеются. Соня уехала к Шеншиным. Всем хорошо. А мне тоска, и не могу совладать с собой. Похоже на то чувство, когда St.-Thomas запер меня и я слышал из своей темницы, как все веселы и смеются».
Даже стариком он не мог забыть этого наказания! А ведь его тогда не только не высекли, но, по сути, мальчишка одержал над Сен-Тома победу. Пригрозив бабушке, что он покинет их дом из-за строптивости Льва, Сен-Тома не сделал этого, стараясь в дальнейшем не обращать на бунтаря особого внимания. Вероятно, причина здесь заключалась не в поступке француза, но в самой личности обиженного.
Вот самое первое воспоминание Толстого, его впечатление от земного бытия, записанное в незавершенном очерке «Моя жизнь»:
«Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и всё это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою».
Точно такое же чувство, как от пеленания, он испытывал и в чулане, запертый Сен-Тома. «Им кажется, что это нужно... тогда как я знаю, что это не нужно». Но сейчас к этому чувству добавлялись еще ужас и омерзение перед возможностью унизительного наказания.
В поздние годы Толстой, конечно, понимал, что Сен-Тома ни в чем не был виноват. Просто Толстой придумал судьбе имя, назвав ее Сен-Тома. Собственно, он должен был благодарить этого заносчивого француза. Ведь он первый навел его на мысль о том, как можно победить насилие. Все планы мести Сен-Тома, которые мальчик обдумывал в чулане, оказались неудачны, потому что они всего лишь повторяли действия его насильника: «И St.-Jerome упадет на колени, будет плакать и просить прощения». Но что толку поставить врага на колени после того, как стоял на них сам? Да, чтобы справиться с насилием, насилие не годится.
«Но не хочу, — так завершается его запись о Сен-Тома от 31 июля 1896 года. — Надо терпеть унижение, надо быть добрым. Могу».
[1] Приставку «Saint» Проспер Антонович взял себе в России для большего престижа.