
Алексей Алексенко: Кривой путь к истине

Лекция Константина Северинова собрала полную аудиторию «библиотеки» на втором этаже гостиницы «Украина». Как всегда бывает в переполненных аудиториях, кто-то понял все, а кто-то лишь кое-что; кто-то же и вовсе не смог попасть на лекцию. Учитывая интересы двух последних категорий публики, мы перескажем здесь своими словами потрясающую историю научного исследования, которой поделился со слушателями Константин. Она показывает, насколько извилист и непредсказуем путь от незнания к знанию, сколько раз приходится возвращаться по этому пути назад, переосмысливать догмы, переходить от теории к практике и — что особенно любопытно — обратно, от практики к теории.
Глава первая. Дарвин против Ламарка


Эта история началась 70 лет назад. Тогда биологи еще почти ничего не знали о генах и ДНК. Зато они хорошо знали учение Дарвина о том, что эволюция идет путем естественного отбора, а материал для отбора — небольшие случайные изменения в наследственной программе организма. Но существовала и альтернативная гипотеза: изменения эти могут ведь быть и не случайными, а продиктованными средой. Среда заставляет организм изменяться определенным образом, а потом эти изменения наследуют его потомки (эта идея известна как «ламаркизм»).
Возьмем, например, бактерии. У них есть естественный враг — бактериальные вирусы (бактериофаги). Если заразить вирусом бактерий, они почти все умрут. Но среди обезображенных трупов непременно найдутся пара-тройка клеток, устойчивых к вирусу. Эту устойчивость они передадут своим детишкам.
Спрашивается: возникла ли эта устойчивость случайно, еще когда никакого вируса вокруг не было? Или она выковалась именно в процессе борьбы с вирусом (то есть под действием среды)?
Различить эти два варианта в эксперименте не так просто. Подумайте сами: чтобы убедиться, что клетка устойчива, придется попробовать ее заразить вирусом — а после того, как встреча уже произошла, как доказать, что не эта встреча стала причиной устойчивости?
Как это сделать, придумали в 1943 году будущие нобелевские лауреаты Макс Дельбрюк и Сальвадор Лурия. Идея вот в чем. Возьмем сотню бактерий, рассадим их по отдельным пробиркам и дадим делиться, чтобы в каждой пробирке накопилось, например, 10 000 клеток. А потом добавим вирус. Если при встрече с вирусом некоторые бактерии становятся устойчивыми — например, 0,1% — то в каждой культуре окажется примерно десять устойчивых клеток. То есть в среднем десять. Может, где-то будет 6 или 17, это дело случая. Но вряд ли будет 0 или 50, слишком уж маловероятно.
А вот если устойчивость возникает независимо от вируса, то в какой-то пробирке она могла возникнуть еще у самой первой клетки — и тогда все потомки окажутся устойчивыми. А в какой-то — в третьем поколении (тогда устойчивыми окажутся четверть клеток).
В любом случае, разброс числа устойчивых клеток окажется куда больше. Именно это и наблюдали Лурия с Дельбрюком. За что в надлежащем порядке получили свою Нобелевку, пусть и спустя четверть века.
Вывод их работы такой: мутации — в том числе устойчивость бактерии к вирусу — возникают спонтанно. Случайно. Когда угодно. Сам вирус для этого не нужен. Гены влияют на обстоятельства жизни, но обстоятельства жизни не влияют на гены. Приобретенные признаки не наследуются.
В этом убеждении наука пребывала еще полсотни лет.
Глава вторая. Наука о простокваше

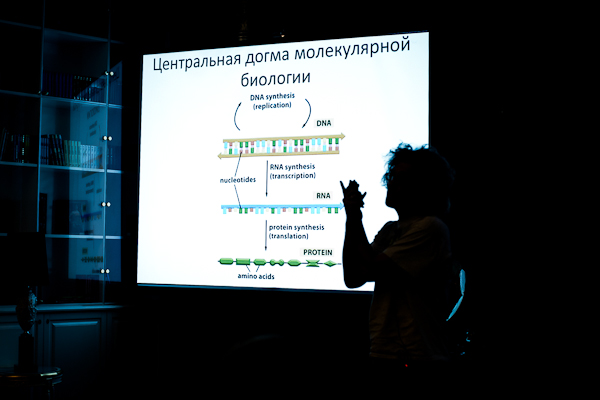
Перед специалистами датской компании Danisco, производящей молочные закваски, стояли задачи не столь масштабные, как те, за решение которых раздают Нобелевки. Они думали о том, как бороться с биотехнологическим пиратством. Ведь закваску можно купить за деньги у производителя, а можно позаимствовать ее у друзей (примерно как хозяйки делятся чайным грибом), не заплатив производителю ни одного эре. Чтобы вывести пиратов на чистую воду, надо было придумать, как безошибочно отличать породы молочнокислых бактерий, выведенные в лабораториях компании.
К счастью, к этому времени (1990-м годам) про гены и ДНК было известно уже очень многое. Ученые пристально посмотрели на геном своих бактерий и увидели в нем одну любопытную штуку: определенная область генома очень сильно различалась даже у близкородственных линий бактерий. Ее и решено было использовать как своего рода «отпечатки пальцев», для того чтобы отличать «свои» породы и привлекать к ответу похитителей.
Эта область генома выглядела довольно любопытно: там был много раз повторен один кусочек ДНК, а в промежутках рассыпаны другие, ни на что не похожие кусочки. Напомним, что ДНК состоит из четырех букв A, G, C и T. Текст же выглядел примерно таким образом:
ЗДЕСЬБЫЛВАСЯЗДЕСЬБЫЛПЕТЯЗДЕСЬБЫЛКОЛЯЗДЕСЬБЫЛВИТЯ...
Только и «имена», и разделявший их рефрен был длиной примерно букв по 30, причем рефрен был записан «палиндромом»: то справа налево, то слева направо. Но главное вот в чем: порядок и количество «имен» и составляли индивидуальную подпись заквасочной бактерии, по которой ее можно было легко вычислить, в чьи бы руки она ни попала.
Назвали эту штуку CRISPR — Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats — и начали использовать по назначению, для идентификации закваски. А зачем такая штука нужна в природе — это биологам из Danisco никто исследовать не велел, ибо прикладная наука должна концентрироваться на задачах, важных для практики.
Глава третья. Нобелевка под вопросом







