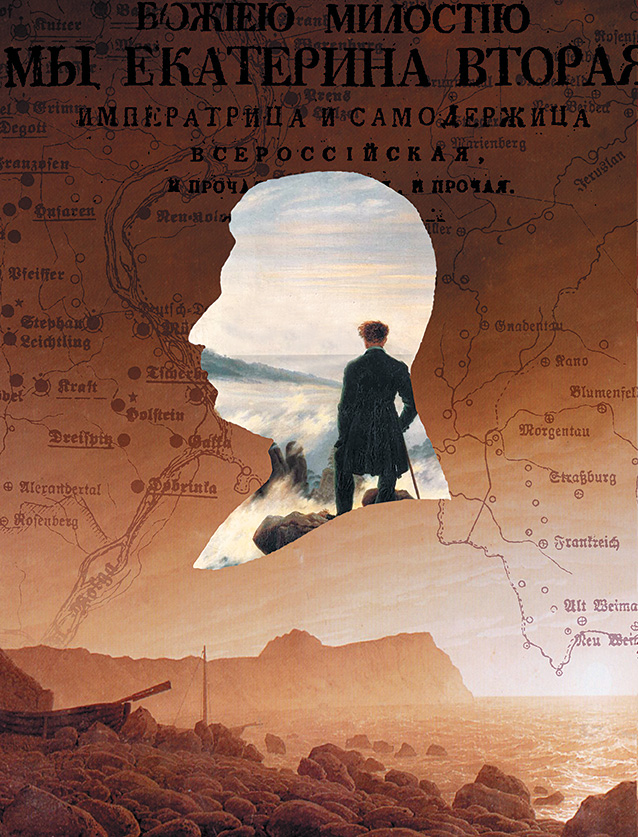Гузель Яхина: Дети мои. Отрывок из романа
Грохот — сильный и резкий, как удар грома.
Бах отбросил перину, сел в постели. Гроза — в начале апреля, когда снега еще не сошли с полей? Встряхнул головой, огляделся. Вокруг — холодный утренний мрак. В щели закрытых ставней пробивается скупая рассветная дымка. Показалось? Рядом зашевелилась сонная Клара.
Повторный грохот. Вернее, стук — требовательный и долгий — во входную дверь и в окна кухни. Стучали так сильно, что было отчетливо слышно даже в спальне.
Вскочила и Клара, ахнула еле слышно. Бах нащупал в темноте ее руку, сжал: молчи! Может, потрутся незваные гости у дверей, да и пройдут мимо. Хотя на счастливый исход надежды было мало.
Снаружи раздался глухой удар, затем звон стекла — кто-то сковырнул запор со ставни и разбил окно. Умело разбил, твердой привычной рукой.
— Эй, хозяева дома есть? — Голос дерзкий, с наглецой; говорит по-русски, но не спокойно и плавно, как в соседних деревнях, а быстро, словно торопясь.
— Где ж им быть… Вон дым какой щедрый из трубы валит, — второй голос, властный и тихий.
Дверь спальни была приоткрыта — Бах ясно слышал каждую фразу. Известных ему русских слов едва хватало, чтобы понять все, однако опасность обострила восприятие: он схватывал и осознавал главное — скрытую в речи угрозу.
Хрястнула от удара оконная рама, зазвенели, осыпаясь, осколки, захрустели под тяжестью немалого тела — кто-то лез в окно, большой и увесистый; резался о стекло и бормотал вполголоса ругательства, которых Бах не понимал, но о смысле которых догадывался.
Стараясь двигаться бесшумно, Бах сполз на пол, встал на колени и потянул за собой оцепеневшую Клару. Когда она очутилась рядом — дышит часто и прерывисто, сквозь зубы, словно продрогнув на морозе, — пригнул ее голову к земляному полу, толкнул в спину: скорей, под кровать! Она поняла — юркнула в пыльную щель, втянула за собой края ночной рубахи. Бах на ощупь стянул со спинки кровати остальную одежду и сунул вслед. Клара затаилась — не стало слышно даже дыхания.
А тот, на кухне, владелец дерзкого голоса и увесистого тела, уже спрыгнул на пол — захрупало стекло под сапогами, — отодвинул засов и распахнул входную дверь:
— Entrez, господа! Или кто вы там теперь по-новому будете…
— Не гарбузи, дура! — Тихий властный голос — уже в доме. — Сейчас тебе хозяин организует это самое «антрэ» — промеж глаз из двух стволов…
Что делать, Бах не знал. Все, чем можно было защищаться, — ножи, молотки, сковороды и прочая утварь — находилось на кухне. Вилы, которые он каждый вечер прислонял к дверному косяку, — там же. Серпы, лопаты, сечки — в сарае. Ружья в хозяйстве не было. А в спальне так вообще ничего не было, кроме кровати, бельевого комода и пары стульев. На цыпочках Бах шмыгнул к окну и нащупал у стены небольшую скамеечку — когда-то на ней любила сидеть за прялкой Тильда, а теперь по вечерам присаживалась Клара, чтобы распустить шнурки на ботинках. Он ухватил скамейку за резные ножки, приподнял над головой и замер у двери: самого первого, дерзкого, он оглушит ударом. Постарается попасть в темя. Как говаривал свинокол Гауф, «шибай быка и хряка в лоб, а человека — по темечку». Если повезет — свалит с ног. А дальше?
— Вдруг здесь и не хозяин вовсе, а хозяйка? Какая-нибудь прекрасная мельничиха? — Дерзкий голос быстро перемещался по гостиной, от стены к стене. Хлопнула печная заслонка, щель под дверью засветилась нежно-желтым — видимо, в комнате зажгли свечу. — А, господа?! Чепчик тонкого кружева. Ноготочки чистые, розовые, так и светятся. Ямочки на щеках. А сама пахнет… водой лавандовой из лавки Контурина, по рупь двадцать флакон…
— Тьфу, паскудство какое, аж зубы свело! — опять властный голос. — Дом иди проверь, трещотка. И как тебя только твой полковник терпел… А ты что застыл, малёк? Рундуки, подпол, чердак — облазить. Искать — еду, спички, оружие. Ну!
Значит, есть еще и третий. Сколько же их нагрянуло, незваных гостей?
Дверь распахнулась внезапно — пнули сапогом. Показалось, кто-то сильно ударил в лицо — но это был всего лишь неяркий свет. Бах не успел ничего сделать, даже вдохнуть не успел — так и застыл, не дыша и держа в вытянутых руках скамейку.
Из гостиной на Баха смотрел человек — густо, по самые скулы обросший щетиной, в грязной шинели, давно потерявшей и цвет, и погоны, и прочие знаки различия. Глаза — шалые, со злым прищуром — нагло глядели из-под драной меховой шапки. Тот самый — дерзкий, понял Бах. В одной руке тот держал горящую свечу, в другой — револьвер.
«Опусти скамейку», — показал стволом. Бах медленно помотал головой: не опущу. Но руки его, дрожавшие от напряжения, словно держал на весу целый стол или комод, внезапно так ослабели, что сами согнулись в локтях и поставили скамейку на пол — аккурат к стенке, где она до этого и стояла. Человек одобрительно кивнул.
«Садись теперь на нее», — вновь показал стволом. Бах хотел остаться стоять, уперся босыми пятками в пол, но ноги его словно подкосились от неторопливых движений черного револьверного дула, затряслись мелко и противно — и через мгновение опустили застывшее тело на скамейку. Вдруг понял, что озяб, словно сидел не в теплой комнате, а где-нибудь на волжском обрыве. Обхватил себя руками, чтобы унять дрожь.
— Знакомьтесь, господа! — закричал дерзкий, по-прежнему держа Баха на прицеле. — Наш гостеприимный хозяин! С виду несколько диковат, но в обхождении приятен!
Их было всего трое, незваных гостей. Кроме дерзкого еще крепкий мужик — широкое калмыцкое лицо в окладистой бороде, узкие глаза прячутся под набрякшими веками, неожиданно короткий нос придает облику что-то животное, не то от летучей мыши, не то от дикой кошки. И мальчишка лет четырнадцати, лобастый, светлоглазый, кадыкастая шея торчком из большой, не по размеру фуфайки. Сгрудились вокруг Баха, таращатся. В руках у мужика Бах заметил свои вилы, а за спиной — ружье.
— Немчура, — уверенно произнес мужик, рассмотрев Баха. — У этого непременно должно быть что-то в доме припрятано. Немцы — народ запасливый.
— Так и погостить бы у него пару деньков, — дерзкий мечтательно оглядел спальню, ковырнул стволом револьвера свесившуюся на пол утиную перину. — Отоспаться, отожраться на германском-то харче. Не все ж по лесу волками шастать.
— Погости, — легко согласился мужик. — А комиссар красный тебя разбудит, когда ты после этого самого харча на пуховой постели дрыхнуть будешь и вшей на пузе чесать. Мы с мальцом к тому времени уже за Вольск уйдем.
Откинув голову к стене, Бах чуть скосил глаза: не выглядывает ли из-под кровати конец Клариной ночной рубахи? Нет, не выглядывает: щель под кроватью совершенно черна. Торопливо отвел взгляд, чтобы гости не заметили, уткнул в потолок.
— Кому сказано — облазить дом? — Мужик зыркнул на пацана, и тот, шаркая башмачищами и снимая на ходу с плеч объемистую холщовую котомку, кинулся обратно на кухню. — Ты хозяина покарауль, — приказал дерзкому. — А я по двору пройдусь, гляну хваленое немецкое хозяйство. — И вышел вон, опираясь на вилы, как на посох.
— Дал бог сотоварищей, — забурчал дерзкий тихо, себе под нос. — То ли порешить, а то ли дальше дружить…
Где-то на кухне громыхала посуда, звенело стекло, звякали крышки кастрюль — мальчишка прилежно шарил по кухне.
Дерзкий, не отводя от Баха ствол револьвера, поставил свечу на комод, сам сел на кровать. Посидел немного, с наслаждением оглаживая грязной рукой мягкие простыни.
— Смотри у меня! — предупредил, погрозив револьвером, как грозят пальцем малым детям, а затем с долгим протяжным стоном рухнул на спину, в мягкое облако подушек и простынь.
Дуло револьвера глянуло из вороха ткани и перинных складок — дерзкий наставил оружие на Баха да так и лежал, глядя на него осовелыми глазами.
Бах сидел на скамейке, по-прежнему обнимая себя. Дрожь в теле не прошла: трясло не только руки и ноги, а все внутри — и ребра, и живот, и сердце, и остальные потроха колотились мелко, каждый орган по отдельности, как терновые косточки в детской погремушке. Скоро гости уйдут. Еду заберут. Мешок с горохом, вяленых окуней, морковную муку, сушеные яблоки… Пусть. Спичек в доме не водится уже который год. Оружия нет. Кроме еды ничего не найдут. А заберут еду — и уйдут. Уйдут. Уйдут.
— Да, спать вы умеете, — дерзкий с сожалением поднялся с кровати — на развороченном белье остался вмятый след.
Подошел к комоду, равнодушно глянул на украшавшую его нитяную накидку, поверх которой вот уже семь лет лежал томик Гете. Вытянул верхний ящик: мужские рубахи, полосатые шерстяные носки, вязаные перчатки в мелкий узор. Примерил перчатки — оказались малы. Пошарил для порядка по дну — нашел только пару костяных пуговиц.
Бах смотрел на ленивые, скучающие движения дерзкого и никак не мог вспомнить, на которой из полок лежит одежда Клары. Вспомнить мешал озноб — тело колотило так, что боялся упасть со скамейки.
Дерзкий вытянул второй ящик: ровные стопки простынь и наволочек в тонких полосках вышитой тесьмы; пара лоскутных покрывал; клетчатая скатерть. И здесь — ничего.
Взялся было за ручку третьего, но в этот миг Бах рухнул со скамейки на пол и на корточках метнулся из спальни прочь.
— Шкет! — заорал дерзкий, устремляясь следом. — А ну, держи его!
Никакого плана у Баха не было — просто хотел вывести чужих из дома. На ходу вскочил на ноги, рванулся было к двери, но в колени ему уже кинулось что-то костлявое и юркое — мальчишка. Упали вместе, закрутились клубком. Сверху бухнулось тяжелое тело дерзкого.
Что-то вцеплялось в Баха, ударяло его, вертело и тащило. Он отбивался, рвался к двери, брыкался. Чувствовал чужое влажное дыхание — со всех сторон. Озноб сменился горячкой — мгновенно, словно бросили в пылающую печь. Стало жарко хребту и шее, лицо замокрело от пота. Ударился лбом о стену, плечом — о ножку стола. Задребезжала посуда, звякнули упавшие половники. Хрустнуло стекло разбитого окна — в спину впилось несколько осколков. И тотчас кто-то зашипел от боли, совсем рядом — хватка вокруг Баха ослабла, и он пополз к двери, ладонями по стеклянному крошеву. Толкнул дверь лбом, обернулся на тех двоих: ползут ли вслед? Хотел перевалить через порог — и ткнулся головой в чьи-то крепкие грязные сапоги.
Поднял глаза: мужик с калмыцким лицом — обошел двор и возвращается в избу. Видно, так и ходил по хутору с вилами наперевес. Этими же вилами подтолкнул Баха легонько в спину: ползи обратно в дом. Бах заполз, ощущая, как горят оцарапанные в кровь ладони. Дерзкий, видимо, также порезался — нетерпеливо тряс в воздухе рукой, гримасничал.
— Не поладили? — усмехнулся мужик, придерживая Баха вилами на полу, словно пойманную щуку острогой. — А как же погостить? Похарчеваться?
Не отвечая, дерзкий только глянул зло и ушел в спальню. Загремел там ящиками комода — видно, искал, чем перевязать руку.
— После похарчуемся, — мальчишка гордо раскрыл котомку, доверху набитую найденной в доме снедью.
Мужик одобрительно кивнул.
Внезапно в спальне стало тихо, а пару мгновений спустя раздался хохот — громкий, на весь дом. Дерзкий возник в проеме двери, красный от смеха, держа в перевязанной кое-как руке маленький белый предмет — женский чепчик.
— Прекрасная мельничиха, господа! — объявил громко.
Бах задергался, но четыре стальных острия крепко прижимали его к полу.
— Не до гнусностей, светает уже, — мужик так сильно вдавил зубцы в спину Баха, что дышать стало невозможно. — Кто знает, какие на этом хуторе гости днем объявиться могут. Вяжем хозяина, чтобы раньше времени о нас не растрепал, и рвем отсюда. Давай, малёк, ищи веревку!
Пацан зашнырял по кухне и гостиной; не найдя веревки, принялся рвать на лоскуты простыню.
— А если она растреплет? — Дерзкий не отрываясь рассматривал чепчик со всех сторон, словно ничего интереснее не видывал, и даже вывернул его наизнанку. — Едва мы за порог, а она в село ближайшее резвыми ножками — топ-топ-топ? И про нас там алыми губками — шу-шу-шу?
Мужик вздохнул тяжело и длинно. Помолчал.
— Ладно, ищи свою бабу, только поскорей.
— Что ее искать-то? — Дерзкий подкинул чепчик в воздух и поймал зубами, как дрессированный щенок; порычал, дурачась, потряс головой, затем выплюнул чепчик на пол. — В спальне она, под кроватью. Недаром нас хозяин оттуда увести хотел.
Бах что есть силы вдавил лицо в пол, ощущая, как в лоб впивается злая стеклянная пыль, а глаза застит чем-то густым и черным. По телу, от живота к горлу, пошли горячие волны — замычал, извиваясь, позабыв про воткнутые в спину вилы. Но сверху уже навалилась тяжеленная туша, раскатывая его по полу как тесто, выдавливая из легких воздух: мужик оседлал Баха, пацан засновал вокруг, связывая за спиной руки и ноги. За возней не слышал происходящего в спальне. Ему заломили руки — так сильно, что свело лопатки, — а локти и колени скрутили в один большой узел, бросили одного. Кое-как сумел приподнять голову: темно, совершенно темно. По вывороченным плечам полоснуло болью, но он продолжал тянуть шею, перекатываться по полу и наконец увидел в окружающей темноте светлый треугольник — маленький кусок спальни: угол кровати со свесившейся периной, чьи-то ноги, целый лес ног — в расхлябанных военных ботинках, и в высоких сапогах, и в драных башмаках. Когда среди чужих ног мелькнуло что-то светлое, знакомое — подол Клариной рубахи, — закричал. Кричал так громко, что сам оглох от собственного крика. Потом почувствовал удар в бок — мир крутанулся, а в рот воткнулся тугой ком ткани в шершавинках кружева — чепчик. Вставили вместо кляпа. Откуда-то сверху надвинулось, опустилось и накрыло с головой тяжелое душное облако.
Дергался под этим облаком, не понимая, где верх, а где низ, куда делись его руки и ноги, да и есть ли они у него, где, наконец, кончается эта удушливая темнота, — так долго, что, кажется, истер до волдырей лоб и щеки. Облако пахло чем-то знакомым, даже родным. Вдруг понял: вовсе не облако то, а перина, верная его утиная перина — истончившаяся за много лет, но все еще теплая, помнящая и промозглость казенной квартирки в шульгаузе, и лютые зимы на хуторе, пропитавшаяся запахами — его и любимой женщины. А сама женщина — прекрасная, с тонкими руками и гладкими волосами — находилась сейчас по ту сторону, снаружи. Нужно было непременно пробраться к ней и спасти. Но от кого спасти, Бах позабыл. И как зовут ту женщину — позабыл. И как он оказался здесь, под периной, — позабыл также…
Когда выбрался, было уже светло. Сквозь щели закрытых ставней лился розовый утренний свет. Одно окно — в кухне — было разбито. Дверь — закрыта. На полу валялся рассыпанный горох вперемешку с битым стеклом. У двери, аккуратно прислоненные к косяку, стояли вилы.
Лицо отекло и горело. Ладони, кажется, тоже, но Бах не был уверен: руки и ноги чувствовал плохо. Заерзал, отталкиваясь онемевшими плечами и коленями, — червяком дополз до устья печи, под которым был набит большой железный лист — для выпавших угольков. Елозил завязанным на спине узлом о край листа, пока не перетер. Освободив руки, сел, кое-как развязал ноги. Кровь толчками пошла в кисти рук, успевшие распухнуть и посинеть, в ступни, в голову. Память возвращалась так же — толчками.
Сначала, отчетливо и крупно, вспыхнули перед глазами лица: дерзкого, мальчишки, мужика с калмыцкими глазами. Затем — как они забирались в дом. Как хозяйничали на кухне. Как обнаружили Баха.
Он поднялся на ноги. Держась за стену, проковылял через гостиную к спальне. Долго стоял у дверного проема — слушал тишину внутри, не решаясь войти. Наконец толкнул приоткрытую дверь.
Она сидела у окна, лицом к свету, на стуле — Бах видел только ореол распущенных волос, пронизанных солнечными лучами. Пол был завален простынями, подушками, рваными наволочками, юбками, рубахами, порванными нитками бус, ворохами белья из комода. Он пошел по этой одежде и этому белью, утопая босыми ногами в белом и мягком, к ней.
Шел — и мучительно хотел назвать ее по имени, потому что все остальные слова были сейчас излишни и даже кощунственны. Но легкое имя ее — чистое и светлое, как речная вода, — уплывало куда-то, рассыпалось на отдельные звуки. Он цеплялся за эти звуки, но они выскальзывали и растворялись в прозрачном утреннем воздухе. Поверил, что вспомнит, непременно вспомнит имя, как только увидит знакомое лицо. Проковылял к окну, прикрываясь от золотого свечения, словно боясь ослепнуть. Наконец развернулся от света и посмотрел на женщину.
Она была обнажена. Бах впервые видел ее такой — сотворенной из молока и меда, из нежного света и бархатной тени. Тонкие руки ее лежали на округлом животе, прикрывая и защищая. Глаза были закрыты, черты лица неподвижны — она спала. А губы ее — улыбались.
Он хотел зажмуриться, отвернуться, чтобы не видеть этой спокойной и мудрой улыбки, закричать и разбудить женщину, или ударить ее наотмашь по этим улыбающимся губам, или ослепнуть самому — но ничего этого не мог и только смотрел, смотрел… Было тихо, едва слышно гудел ветер — не снаружи, а где-то внутри Баховой головы, — постепенно усиливаясь, иногда переходя в свист, выдувая и унося куда-то и имя женщины, и остальные имена, и прочие слова, и сами звуки…
• • •
Бах представил, как проснется Клара — в мокрой от пота и родовых вод исподней рубахе, посреди успевшей остыть комнаты, дрожащая от усталости и озноба: перед тем как уйти, он не догадался подтопить печь. Постоял немного, слушая тишину и наблюдая, как разливается по сугробам сияющий розовый свет. Развернулся и пошел домой, наступая на свою длинную, в полреки, фиолетовую тень.
Карабкался по тропе, цепляясь за оледенелые камни и опушенные инеем ветки кустарника, шел по лесу меж заснеженных дубов, пробирался по давно не чищенному двору к крыльцу — и удивлялся, что не мерзнет. Руки его побагровели, пальцы едва сгибались, но мороза отчего-то не чувствовали, как и непокрытая голова, и открытая шея, и глядевшая в разрезе меховой тужурки грудь. Возможно, тело его потеряло чувствительность к холоду, как потеряли губы способность произносить слова. Возможно, органы чувств предают его — постепенно, по одному, — как предал язык. И возможно, это все к лучшему: теперь он сможет жить в хлеву или в сарае, оставив матери с новорожденным весь дом. Ночевать с ними под одной крышей — слышать ласковые пришептывания Клары в ответ на детские крики, шорох платья, когда она будет вынимать грудь для кормления, — было бы невыносимо больно. Решил: станет ухаживать за домом и садом, рыбачить, заготавливать дрова, добывать пропитание для Клары — словом, жить, как и прежде, стараясь не видеть и не слышать нового жителя хутора, не замечать его присутствия. Первый год, пока ребенок еще не встал на ноги, это будет несложно. Что будет после — сможет ли Бах справиться со своей болью или покинет хутор, — покажет время.
Переселяться в хлев решил сейчас же, как только бросит в печь пару поленьев, вскипятит ведро талого снега и запарит утреннюю тюрю из морковной муки вперемешку с овсом: Клара, должно быть, встанет голодной, с желанием смыть с себя все следы тяжелой ночи. Осторожно, чтобы не скрипнуть дверью, прокрался в дом, разжег в печи уснувший было огонь. Водрузил на плиту ведро со снегом и чайник с питьевой водой. Засуетился у стола, готовя завтрак. Торопился сделать все скорее, стараясь не шуметь — не хотел будить Клару.
В комнате было тихо, лишь поскрипывало что-то едва слышно — то ли схваченное морозом бревно, то ли тронутая ветром ставня. Уже замешивая в плошке морковную муку деревянной ложкой, вдруг понял: не ставня и не бревно — то младенец жалобно поскуливал в полусне. Бах накрыл плошку тарелкой, а тарелку — полотенцем, чтобы тюря лучше настоялась. Снял с плиты клокочущее ведро с кипятком, поставил на стол (металлическая ручка, должно быть, нагрелась, но пальцы жара не ощутили). Рядом выставил медный таз, в котором они с Кларой обычно попеременно мылись, и черпак для воды. Снял с гвоздя и накинул на плечи полушубок, пару лет назад ушитый из старого кожуха Удо Гримма, — не для тепла, в котором теперь, очевидно, не нуждался, а из желания иметь на себе какую-то привычную вещь. Решил взять в хлев только лавку, на которой спал. Вдруг пришло в голову прихватить и томик Гете — в тишине хлева книге будет спокойнее, чем в доме, наполненном детским плачем, материнским сюсюканьем и заунывными колыбельными.
Придерживая полы великоватого все же полушубка, чтобы ненароком не шорхнуть о стену или не задеть стул, и стараясь не глядеть на кровать, где спали Клара с младенцем, Бах вошел в спальню. Сквозь закрытые ставни сочился слабый утренний свет. Дыхания Клары слышно не было, только попискивание младенца раздавалось в полутьме — кажется, дитя проснулось. От звуков этих свербило в ушах и ныло в затылке (подумалось: жаль, что судьба лишила его речи, а не слуха!). Морщась, Бах торопливо шарил по комоду, ища книгу, — и нечаянно уронил ее на пол. Томик упал со странным хлюпающим звуком. Наклонился, поднял книгу к свету — переплет в чем-то темном, густом. И пальцы — в том же темном. Опустил взгляд — привыкшие к сумраку глаза различили под ногами черную лужу: она тянулась через всю комнату и исчезала где-то под кроватью.
Положив книгу на комод и держа на весу перепачканные руки, Бах подошел к спящей Кларе. Лицо ее едва заметно белело рядом с головкой новорожденного на подушке. Кончиками пальцев, стараясь не испачкать перину, Бах приподнял ее за угол, затем откинул полностью.
Посередине кровати чернело большое пятно — перепачканы были и подол Клариной исподней рубахи, и голые ноги, неловко прижатые к животу. Сама она лежала, скорчившись, неподвижно, обхватив руками колени и уткнув лицо в младенца. В застывшей позе Клары было что-то странное, неестественное, какая-то загадка, которую непременно требовалось разгадать. Что означало это нелепое положение тела? Руки, вцепившиеся в колени? Скрюченные, словно сведенные судорогой, ступни?.. Отгадка была где-то совсем рядом, но пищавший младенец мешал сосредоточиться. Бах взял потное тельце и досадливо переложил с кровати на пол. Отвращения не почувствовал — все мысли были заняты поисками ответа. Думалось отчего-то тяжело и мучительно, словно в голове перекатывались большие валуны.
Решил открыть ставни — на свету и думается легче. Вышел на улицу, обошел дом, утопая в снегу. Аккуратно сбил лед со ставенных затворов, распахнул створки, тщательно закрепил у заиндевевших стен. Ладони, касаясь льда, мерзлого дерева и металла, по-прежнему не чувствовали холода. Вернулся в залитую светом спальню. Не снимая полушубка, сел на край кровати и стал смотреть на Клару.
Как глубоко она спала! Бледная, как вылепленная из снега. Сделанная из фарфора. Вырезанная из бумаги. Лицо ее будто уменьшилось в размерах, закрытые глаза обвело синюшными кругами, а веснушчатая россыпь на щеках из золотой стала цвета речного песка. Бегущие от крыльев носа к подбородку линии пролегли четче, а тени под скулами — глубже и темнее. Только волосы остались прежние — русые, отливающие медом. Что хочешь ты этим сказать мне, Клара?
В поисках ответа Бах обвел глазами комнату. Вот комод, на нем — томик Гете. Стул с резной спинкой, потемневшей от времени. Низкая скамейка. Тщательно выметенный земляной пол, в некоторых местах еще видны борозды от истрепавшегося веника. На полу — блестящая черная лужа. Нож, которым была перерезана пуповина, лезвие измазано засохшей кровью. Новорожденный — крошечный, влажно-багровый, весь в каких-то складках и морщинах, бьет ножками и ручками, разевает рот — видимо, кричит. Разворошенная кровать с откинутой периной. Пятно на простыни, густо-красное в дневном свете. Поверх — неподвижная Клара в перепачканном белье…
Вода, вспомнил он. На кухне ждет вода, приготовленная для умывания. Надо вымыть Клару, пока вода не остыла. Притащил ведро, таз, черпак. Сунул руку в воду — и не смог понять, холодная она или теплая. Прости, мысленно сказал Кларе. Буду мыть тебя водой, какая есть. Надеюсь, ты не замерзнешь.
Принес мочало, достал из комода чистое полотенце. Налил в таз воды; забрызгал при этом рукава полушубка, но снимать не стал. Забрался с ногами на кровать, чтобы стянуть с Клары исподнее, запутался в завязках — разорвал рубаху, отшвырнул обрывки ткани, тесьмы и кружев. Усадил обнаженное тело в таз и начал мыть.
Клара не слушалась — норовила то удариться запрокинутой головой об пол, то выпростать длинные ноги и макнуть их в черную лужу. Потерпи, просил Бах, обмывая ее ступни, лодыжки, колени, узкие бедра, уродливо опавший мешок живота, каменно-тугие шары грудей, хрупкие ключицы, тонкую шею, осунувшееся лицо. Когда легкое и твердое тело Клары стало снежно-белым, без единого темного пятнышка, он прижал его к груди, поднялся с колен и застыл посреди комнаты, не зная, куда положить: белье на кровати все еще было грязным.
Наконец догадался — в ледник. Вот где было по-настоящему чисто. Отнес, уложил в низкий деревянный ящик, заполненный кусками колотого льда вперемешку со снегом. Потерпи, попросил вновь. Когда вымою дом, заберу тебя отсюда. Надеюсь, ты не замерзнешь. Вернулся в комнату. Сел на стул. В голове тяжело ворочались мысли; мелькал среди них и ответ на заданную Кларой загадку; ответ был на удивление прост, но никак не давался — ускользал, как запах прошлогоднего цветка или слышанная в детстве мелодия.
Стал посыпать пол песком, чтобы вымести вон и черную лужу, и расплескавшуюся при мытье воду, и валявшиеся на полу обрывки исподней рубахи, и всю эту невесть откуда взявшуюся мерзкую нечистоту; но руки почему-то дрожали и не слушались — чуть не выронил ведро с песком; ноги стали тяжелы, словно валенки чугунные надел, заплетались и подкашивались. Вдруг споткнулся обо что-то — младенческое тельце. Все еще лежит на полу, все еще сучит лапками. Дырка рта пузырится тягучей слюной — кажется, ребенок орет.
Что делать с этим чужим и ненужным существом? Оставить лежать? Отнести в ледник, под материн бок? Думать сейчас об этом сил не было. Хотел просто переложить тельце обратно на кровать, чтобы не мешало убираться; взял в руки — и вдруг почувствовал, как оно горячо. И крошечные ручки, похожие на лягушачьи лапки, и ходящие ходуном ребрышки, и круглое брюшко, и крупная голова с перекошенным от напряжения малиновым личиком, блестящим от слюны и слез, — все пылало таким густым и сильным жаром, словно был это не ребенок, а плотный сгусток огня. Пальцы и ладони Баха, только что не умевшие различить на ощупь лед и горячий металл, вновь обрели чувствительность, будто лопнули покрывавшие их толстые перчатки или слезла короста. Обжигаясь о раскаленную младенческую кожу, жадно прижал детское тельце к животу, обхватил руками, завернулся вокруг, чувствуя, как по внутренностям разливается блаженное тепло. Младенец дергался и извивался, и скулил, подхрипывая. Боясь выронить подвижное тельце, Бах поднял и сунул его за пазуху — оно легко скользнуло по груди, распласталось по ребрам, все еще продолжая биться и судорожно всхлипывать, но постепенно успокаиваясь. Исходящий от ребенка жар скоро наполнил все Бахово тело — спина, плечи, голова словно налились пузырящимся кипятком. Млея от этого долгожданного тепла, Бах позволил ослабелым ногам согнуться — осел на кровать, завалился на бок, прикрыл веки. Прижал ладони к лицу и с удивлением обнаружил на них влагу: похоже, он плакал.
Плакал вместо младенца, который затих у него на груди. Плакал по-детски о какой-то нелепой малости: о том, что белье на кровати испачкано — не отстирать; о том, что исподняя рубаха Клары порвана в мелкие лоскуты — не зашить. Что сама Клара сейчас далеко — не позвать. Что лежит она, холоднее и белее снега, в деревянном ящике, где хранят битую птицу и мертвую рыбу. Что глаза ее закрыты, а на ресницах уже намерз иней. Плакал о том, что Клара умерла.
Вот что она хотела ему сказать, а он силился понять все утро. Разгадка была проста, длиной в одно слово. Поняв, что нашел правильный ответ, Бах вздрогнул и открыл глаза. Слезы мгновенно высохли, а наполнившее члены тепло обернулось горячей, выжигающей изнутри тоской.Ɔ.
Роман Гузели Яхиной «Дети мои», действие которого разворачивается в немецкой автономии на Волге, выходит в «Редакции Елены Шубиной» в мае 2018 года.