
Герард Реве: Книга о фиолетовом и смерти
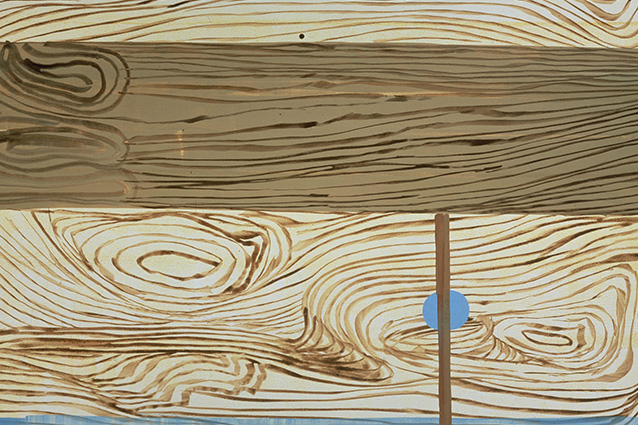
Перевод: Ольга Гришина
Что же я делал тем летом 1943? Ничего особенного. С блеском сдал выпускной экзамен в Графической Академии, ибо, вообще говоря, хотел стать художником, но академия дала мне также письменное удостоверение о том, что я еще учусь и, следовательно, освобожден от принудительных работ в Германии. Благодаря моему юному возрасту и внешности и напускной глуповатой застенчивости я не так уж часто попадал под подозрение: просто школьник, так меня и воспринимали.
Проблем у меня было достаточно, что да, то да. Противоестественная моя сексуальная наклонность была тогда еще отнюдь не в моде и, кроме того, я внушал себе, что ее нет, но делалось только хуже. Опыта в этой области у меня не было, и в поистине смертном страхе я панически отвергал всякое возможное сближение с мальчиками и мужчинами. Это была жизнь, исполненная страстных желаний, мастурбационных видений, нервного истощения, депрессии и отчаяния, и всё это с самым жизнерадостным лицом. На самоубийство я решался всего раз, так что это еще ничего, ибо я знаю людей, которые накладывали на себя руки шесть-семь раз и всё еще живут и здравствуют, один из них кончил инвалидной коляской, но это «терпенье и труд всё перетрут» есть слишком оптимистичная жизненная мудрость.
Я откладывал жизнь, и должен был наступить настоящий кризис, чтобы дело стронулось с места. После этого жизнь сделалась довольно интересной, но оставалась мелкомасштабной: по-настоящему существованием я не наслаждался никогда и никогда не чувствовал себя в жизни как дома. Для тогдашнего моего состояния я подыскал слово, которое подходило всегда и ко всему, и которое Вам уже встречалось прежде: трагическое. Ибо трагическое всегда хорошо. И писать трагический роман или трагический рассказ или трагическое письмо куда легче, нежели создать нечто забавное. Впрочем, и люди охотнее читают всякие горести, нежели все эти два притопа три прихлопа. Если писатель заводится на трагические темы, то от него зависит, сумеет ли он удержать верный тон. Печаль всегда прекрасна (вспомните дрожь при исполнении Св. Таинства), а прекрасных веселых книг не бывает. Даже безумие сексуального действа окружено выветренными надгробными плитами под куполом вечной тьмы. А «милые» стишки, Вам они кажутся милыми? Ну, тогда придется Вам в который раз дать себя хорошенько осмотреть. По морде давай любому, кто намеревается тебя осчастливить, вот что я имею в виду. Человек, который думает помираю, а ему становится лучше, а потом он всё равно помирает. Это же так ведь? Или Вам кажется это слишком сложным?
Но что я собирался делать в начале этих длинных каникул в 1943 г.? По заданию амстердамского бывшего муниципального советника Франке (который в начале 1941 был смещен и уволен оккупационными властями) мне нужно было выехать во Фрисландию, чтобы передать одному молодому еврею-подпольщику деньги и продуктовые карточки. Я знал этого мальчика, Роберта Х., поскольку год учился с ним в одном классе. Родителей его увезли, и они не вернулись, он же и его сестра пережили войну. Удивительно то, что эта его сестра пряталась в доме Франке, а я этого не знал, хотя не раз приходил к ним. Люди были осмотрительны: чего было знать не обязательно, того и не знали, ибо чего человек не знал, того и не мог выдать под давлением. Возможно, к этой организации подпольного сопротивления (в народе именуемой также «нелегалка») я еще вернусь, а может, и нет: более чем полвека спустя я, если тут мне решать, не хотел бы больше никогда упоминать о ней, ибо хватит. Если под этим памятником лежит мертвец, которого я лично знал, тогда я соглашусь на возложение венков или церемониальный марш, при условии, что близким это будет приятно, но в остальном считаю, что с этим должно быть покончено.
От г-на Франке я получил только весьма краткие данные, которые нельзя было записывать. Я должен был поехать поездом в Энкхёйзен, переплыть пароходом во фрисландский городок Ставорен, а оттуда поездом или паровым трамваем — в большой город Херенвен. На главной улице мне надлежало спросить дом пастора Такого-то и Такого-то. У пастора я должен был получить точный адрес Роберта Х. Название деревни, где тот находился, г-н Франке, удивительное дело, мне сообщил, правда, не упоминая улицы, номера дома или имени его обитателя. Но в качестве некоего анекдота он поведал мне, что хозяин дома работал в муниципальной ассенизационной службе и ездил от дома к дому на лошади с телегой, забирая доверху наполненные сортирные бочки: гигиеническая система, все еще довольно распространенная на селе. Без знания названия деревни и профессии того человека моя поездка была бы бесплодной, и мне пришлось бы возвращаться домой несолоно хлебавши. Как там было, я Вам позже расскажу.
Поезда в те времена ходили не так быстро, как сейчас, и паром этот из Северной Голландии во Фрисландию и vice versa ходил всего лишь дважды в сутки, возможно, также и из соображений экономии горючего.
Я выехал примерно в середине утра. Поезд был не полон. Приблизительно через три четверти часа он встал, не на станции, но где-то между двумя остановками. Сперва была тишина, потом заговорили. «Это из-за двигателя, или это из-за вагонов?» — произнес вопросительный женский голос.
Остановка длилась несколько минут. Я услышал, как позади меня открылась дверь, кто-то вошел, вновь звук с силой закрываемой двери, а потом приближающиеся шаги. Я подумал, что это кондуктор, который уже проходил по поезду, поглядывая, всё ли в порядке. Но в мой вагон вошел не железнодорожник, а — что довольно удивительно — одетый не в униформу молодой человек, и сел напротив меня у окна купе, где я был единственным пассажиром. Как мог простой смертный, не одетый в униформу, вот так запросто между двух станций влезть по железнодорожной насыпи и войти в поезд? Но тут же, при первом взгляде, вопрос мой сделался несущественным, хотя я продолжал беспокоиться о том, имеется ли у него карточка (действующий проездной билет), а если нет, то как я смогу оправдать это нарушение в глазах кондуктора.
Новый пассажир был молодой человек моего возраста. Ему явно пришлось пробежаться, ибо он всё еще тяжело дышал. Он выглядел как те, кого порой принято издевательски называть «гуляй деревня». Одежда его была определенно предназначена для свадьбы или какой-то иной важной встречи, и всё же никакой издевки или пренебрежительной мысли мне в голову не пришло. Да, Вам — конечно, Просвещеннейший Друг, бессовестный монстр, Вам-то да: Вы посягаете на всё, что прекрасно и невинно. Первым делом быстренько оглядеться, потом ущипнуть мальчика за что-нибудь, сперва исподтишка, а если мальчик начнет протестовать и остальные пассажиры захотят узнать, в чем дело, поведать, что он, мальчик то есть, Вас лапал, и вовсе не наоборот. Мальчик плачет от омерзения, а Вам это что бальзам на сердце. Призовут Вас однажды к ответу, и да воспослужит это утешением для всех тех, кто читает это или слышит.
Смотрите: мальчик на страх и совесть приоделся как можно приличнее, и я с Вас шкуру спущу, если Вы осмелитесь сказать или подумать по этому поводу что-нибудь гадкое. До сих пор я терпел и проглатывал почти всё, но это в прошлом.
Я, слава тебе Господи, не тряпичник, но знаю, что красиво, а что нет, иначе не писал бы об этом. Ибо мой попутчик был хорошо сложенный молодой человек, белокурый, но это почти само собой, и у него было благородное лицо, лучившееся безыскусным мужеством и честностью, то есть не рожа деятеля искусств или интеллектуала или телеказуара, но этих в те времена еще не существовало.
Светлые волосы его были недавно сильно подстрижены и сбриты на шее и далеко за ушами. Он мог бы быть молодым Немецким Солдатом или Военным Матросом, но тогда он был бы в униформе. Иметь безнадежную связь с одиноким мальчиком-солдатом или Матросом Морской державы беспощадного врага, это было нечто великое и возвышенное, и мысль об этом нередко посещала меня, но всякий раз я вновь прогонял ее. Об определенных действиях я при этом едва ли осмеливался помышлять, только о простой привязанности и доверии: супружество крови, осуществленное пред Алтарем Смерти. Позже это всё-таки пришло, и благодаря моей верности памяти этого мальчика я описал это в своем любовном романе «Язык любви» или «Милые мальчики», в одном из двух, тепло принятом публикой, но опротестованном дамами и господами-журналюгами, не жаловавшим друг друга, потому что сами они любви получить не могли и ничего не знали, также и того, что язык любви — интернационален. Вы не должны верить тому, что написано в прогрессивном ежедневнике или таком же еженедельнике, ибо всё то, что там написано, во-первых, вранье, во-вторых, ложь, а в третьих — неправда. Эти люди еще никогда не читали ничего, что было бы почерпнуто из жизни. Тоже весьма антикатолики, даже против самого папы, не представляешь, как это возможно. Нет, не я, но эти тухлые писатели статеек, которых я достаточно часто предупреждал, а они продолжали гнуть свое.
Еще раз суммируя и тем самым исключая всякое неверное понимание, я подчеркиваю, что мальчик, севший в купе напротив меня, не был ни Немецким Солдатом, ни Немецким Военным Матросом из Военно-Морского флота, но обычным североголландским мальчиком из деревни.
Можно ли было взять такого мальчика в плен и всегда держать его при себе, так, чтобы он никогда уже не ушел прочь, и умереть вместе с ним, если бы по-другому было нельзя? Что я в точности имею в виду: мальчик из собственной страны, который сейчас сидел напротив меня, или такой же Немецкий Мальчик-солдат? Или Немецкий Военный Матрос? Возможно, лучше один из двух Немецких юных героев, чем мальчик из купе, но выбор всё равно был труден, ибо Матрос был чувствительнее и сентиментальнее и по маме скучал больше, чем Солдат. Был ли он также более жестоким? Откуда мне было знать, и проверить было негде. Так что, возможно, мальчик, сидевший напротив меня, был всё же менее затруднительным выбором. Но что стали бы мы делать, если бы навсегда сделались братишками? В невинности моей я не мог думать ни о чем другом, нежели о дружеской борьбе и возможности потом отшлепать его по заднице, туго обтянутой штанами — насколько сильно, я еще не был уверен.
— Путешествуешь, а? — сказал мне мальчик.
— Да, каникулы, — торопливо ответил я. Мальчик был застенчив и сразу что-то еще сказать не решился. После этих слов он показался мне очень милым, прежде всего его голос, невзирая на североголландский акцент, или, возможно, как раз благодаря ему.
Но найти его милым не означало, что это к чему-то приведет. Ибо как бы это было? Как бы я осуществил, например, «постоянный контакт» с ним? Навещать его дома, а ему — заходить ко мне в большом городе А.? И всё это при том, что я-то знал бы, в чем умысел, а он нет. И что скажут или подумают его родители? И о чем тогда говорить? О спорте? О парусном спорте, например? Но я об этом ничего не знал. С моими родителями проблем бы не было, поскольку отец мой с лета 1941 скрывался то здесь, то там, а теперь в Гауде, думал я. По случайности его не было дома, когда гестапо пришло за ним ночью.
Моя мать, та — да, она была мягкая, любящая и не стала бы так сразу искать подвоха в дружбе, но вот мой Ученый Полубрат — тот допросил бы его и унизил: из-за его акцента и его неграмотности и потому, что тот, возможно, захотел бы стать моим дружком. И насчет его одежды он тоже стал бы отпускать колкости.
По одежде, кстати, не было ничего заметно. Его пиджачная пара была сшита по новейшей, скажем, пятилетней давности, моде, которая сразу же стала и последней, ибо уже несколько лет купить одежду было негде. Костюм его был синего цвета с тонкими вертикальными кремово-белыми полосками. Это, вероятно, был единственный костюм, которым он обладал: остальной гардероб, наверно, состоял только из рабочей одежды. Из курточки он несколько вырос, ибо рукава были коротковаты, так что рукава его белой рубашки далеко высовывались из пиджачка. Манжеты рубашки были застегнуты грубыми запонками с фальшивой позолотой и стеклянной бусиной. Тяжелый, жесткий воротник рубашки тоже был несколько узок. На нем был опрятный, но уродливый темно-зеленый галстук, на коем был изображен силуэт хоккеиста вкупе с клюшкой. Галстук крепился на рубашке длинным зажимом из той же коробки, что и запонки, и обогащен бессмысленной, но шаловливой цепочкой.
Возможно, я слишком долго на него глядел, так что я опустил глаза. На нем были черные башмаки на низком каблуке, верхняя часть одного из них была залатана сверху, но они были с большой тщательностью начищены. Всё указывало на то, что это аккуратный мальчик, застенчивый уже в этом костюме, и еще более застенчивый, если ему где-то придется раздеться совсем, пока другой наблюдает. Но я вовсе не буду смотреть, если ты не хочешь, думал я, ты можешь оставаться в одежде.
Мальчик мог постепенно начать думать, что его общество мне наскучило, так долго я ничего не говорил и только глядел на него, конечно, осторожно, но он мог решить, что я презираю его. Что я должен был сказать?
— Куда едешь? Далеко? — спросил я, хотя меня это вовсе не касалось. Вечно во что-то вмешиваться и никогда не давать свободы другому, чтобы самому о чем-то подумать и получить другое мнение или быть настолько глупым, чтобы исповедовать другую религию, ибо та была такая глупая, думали мы дома.
— Нет, я только до Схардуссепола, — разобрал я. — Еще две остановки. — Для ясности он поднял вверх два пальца. Да, стало быть, это короткая встреча. Мы больше не могли подружиться, и о том, чтобы записать имя и адрес друг друга, больше не могло быть и речи. Мне нужно запомнить название остановки, на которой он выйдет, заучить ее наизусть и потом сохранить в книжке. Если я буду раз в месяц ездить туда, в то место, в разное время, и всякий раз хорошенько смотреть по сторонам, то статистически в течение 3½ лет я найду его.
— Я дальше, к семье. Во Фрисландию, — сообщил я ему. — Там озера. Фрисландские озера называются. — Вот так человек узнает что-то. Поезд притормозил у практически безлюдной станции, потом снова разогнался.
— Хочется малость прошвырнуться, — сообщил мальчик. — Целен день дома сидеть, не по мне это. Не нравится мне такое.
— К друзьям едешь? — спросил я. Вопрос был невинный.
— О, да, — подтвердил он. — С друзьями, это суперклево. Ржем постоянно.
Незатейливый парень, подумал я, но всё-таки знал, чего хочет и чего не хочет. Человек здорово продвинулся, и это может послужить примером другим и мне самому.
Мы помолчали. Теперь поезд замедлил ход перед очередной остановкой, бывшей целью мальчика. Он встал.
— Приятной поездки, — сказал он и потом, всё еще мешкая в дверях, подтвердил свое заявление: — С друзьями всегда клево, а дома совсем ничего такого.
Я еще раз вгляделся из окна купе на уплывающий перрон, но он уже исчез.