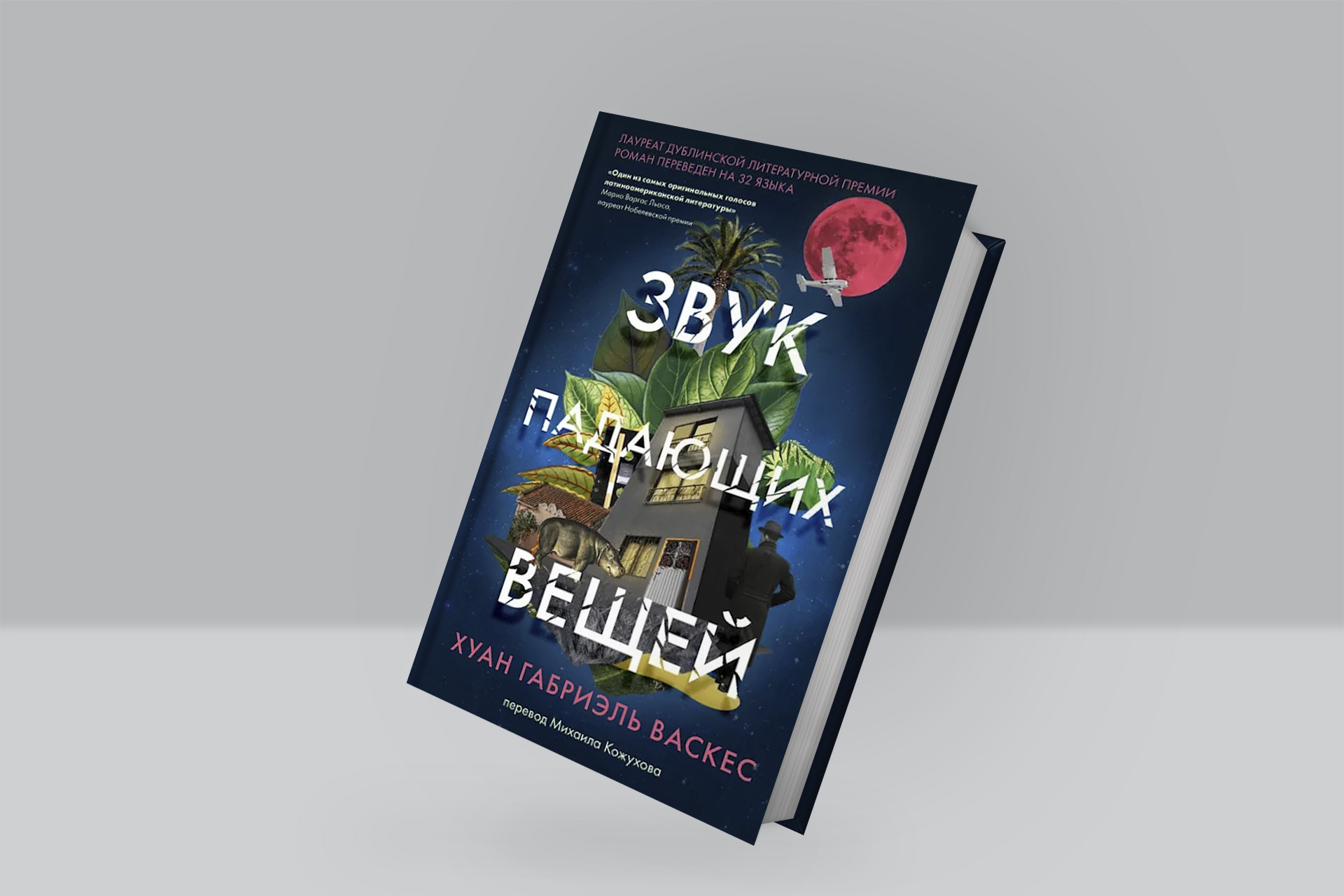«Звук падающих вещей». Новый роман Хуана Габриэля Васкеса в переводе Михаила Кожухова
Колумбийца Хуана Габриэля Васкеса считают «наследником Маркеса». Его новый роман «Звук падающих вещей» лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса назвал самым значительным произведением на испанском языке, написанным за последнее время. Роман вышел на русском языке сразу в двух переводах: первый — преподавателя автора учебников по испанскому Маши Малинской, второй — журналиста-международника и президента «Клуба путешествий», дипломированного испаниста Михаила Кожухова. Он перевел текст «для себя», а уже потом отправил в издательство. «Сноб» публикует отрывок из книги с предисловием Кожухова

Михаил Кожухов:
«Раз Колумбия, то “наркос”?» — подумали вы. И ошиблись. В романе Хуана Габриэля Васкеса «Звук падающих вещей» картели — только фон для рассказа о любви и судьбах людей, безжалостно перемолотых торговцами кокаином. Об этих ребятах я кое-что знаю.
— Здравствуйте, я из России.
— Отлично. И что вас интересуете?
— Калийский наркокартель.
— Подойдите к окну. Что вы видите?
— Памятник какой-то, — ответил я.
Перед входом в здание главной газеты колумбийского города Кали виднелась каменная стела с незнакомыми мне именами, на бронзовой табличке под ними было оставлено место.
— Это памятник тем, кто задает глупые вопросы.
Власть в Кали держал самый мощный в этой стране кокаиновый наркокартель, когда я, в ту пору — собственный корреспондент «Известий» в Южной Америке, попросил о встрече журналиста, который освещал эту тему.
— Мой вам совет: улетайте отсюда немедленно, — мрачно закончил разговор коллега и наотрез отказался говорить о чем-либо, связанном с трафиком кокаина. — Если не хотите, чтобы и ваше имя пополнило список.
Я внял совету и наутро улетел в Медельин — красивый город, расположенный к северо-западу от Боготы. Его называют «городом вечной весны»: он окружен горами и утопает в цветах, температура там круглый год редко поднимается выше 23 градусов по Цельсию. На весь мир Медельин прославился тем, что на его окраине родился и жил Пабло Эскобар, самый знаменитый в мире кокаиновый барон.
Там все было иначе, чем в Кали. Хотя разница между двумя бандами, которые контролировали торговлю, была несущественной. Калийцы без шума и пыли поставляли в США большую часть кокаина, изобретая для перевозки грузов все более изысканные способы. Эскобар держал меньшую долю рынка, зато жил широко и шумно: коллекционировал пижонские автомобили, устраивал грандиозные попойки и даже распорядился построить зоопарк с экзотическими животными, куда был открыт доступ всем желающим.
А еще он играл в Робин Гуда. Энвигадо, — так называется район, его малая родина, — был едва ли не единственным местом в стране, где выплачивали пособия по безработице — разумеется, из доходов наркокартеля. На те же деньги для районной газеты построили здание в виде зимнего сада, — таких нет и сегодня даже у самых богатых и знаменитых изданий, — причем районный вестник был полностью компьютеризирован, что в начале 90-х годов прошлого века казалось абсолютной футуристической сказкой («Известия, где я трудился, набирались, например, на линотипах – «метисе» печатной машинки и доменной печи).
— Эскобар? Какой такой Эскобар? – удивился в ответ на мои расспросы редактор газеты. — Я о таком не слышал.
Прямо из окон редакции на далеких холмах был виден крохотный серый прямоугольник в окружении буйной растительности — одноместную тюрьму, специально построенную для Эскобара. Таким было одно из условий его добровольной выдачи правосудию.
Его арест мало что изменил в Медельине. Полиция не рисковала появляться на окраинах города, по ночам там гремели выстрелы, а наутро смывали кровь с мостовых. Почти каждый подросток мечтал об одном: стать «сикарио» — наемным убийцей. Получить пистолет и делать грязную работу для «Паблито», на могиле которого и сегодня, спустя много лет после его ликвидации, лежат свежие цветы, хотя время безраздельной власти наркокартелей в Колумбии, кажется, прошло — безвозвратно, хотелось бы верить.
«Звук падающих предметов». Отрывок из книги
Мне было четырнадцать лет в 1984-м, когда Пабло Эскобар убил или приказал убить своего самого выдающегося преследователя, министра юстиции Родриго Лара Бонилья (два киллера на мотоцикле, поворот на 127-й улице). Мне исполнилось шестнадцать, когда Эскобар убил или приказал убить Гильермо Кано, главного редактора газеты «Эль-Эспектадор» (в нескольких метрах от помещения газеты убийца выстрелил ему восемь раз в грудь). Мне было девятнадцать, и я уже считался взрослым, хотя еще и не голосовал, когда погиб Луис Карлос Галан, кандидат в президенты страны. Его убийство отличалось от прочих, или нам казалось, что отличалось, потому что мы смотрели его по телевидению: репортаж о демонстрации, приветствующей Галана, затем автоматные очереди, его тело беззвучно падает на деревянный помост, либо звук падения тонет в суматохе толпы. Вскоре после этого Эскобар взорвал самолет компании «Авианка», это был Боинг 72721, он взорвался в воздухе где-то между Боготой и Кали, чтобы убить политика, которого в нем даже не было.
Итак, все бильярдисты восприняли очередное преступление с сожалением и покорностью, которые уже стали своего рода особенностью национального характера, приметой нашего времени, а затем мы вернулись к игре. Все, кроме одного. Его внимание было приковано к экрану, где уже сменилась картинка, и мелькали кадры следующей новости: заброшенная арена для боя быков, заросшая кустами до самых флагштоков, навес, где ржавело несколько старых автомобилей, гигантский тираннозавр, напоминавший старый и грустный манекен, его тело разваливалось на куски и обнажало металлический каркас.
Это была легендарная асьенда «Неаполь» Пабло Эскобара, которая когда-то стала штаб-квартирой его империи, а потом оказалась брошенной на произвол судьбы после смерти «капо» в 1993 году. В новостях как раз и говорилось о ее запустении; о собственности, конфискованной у наркоторговцев, о миллионах долларов, потраченных властями, не знавшими, как ею распорядиться, обо всем, что можно было бы сделать, но чего так и не было сделано с этими сказочными активами. И именно тогда один из игроков за ближайшим к телевизору столиком, на которого до сих пор никто и внимания не обращал, заговорил так, будто говорил сам с собой, громко и непосредственно, как обычно делают те, кто, долго живя в одиночестве, забывают о самой возможности быть услышанными.
— Интересно, что они собираются делать с животными, — сказал он. – Бедняги умирают от голода, и всем плевать.
Кто-то спросил, каких животных он имел в виду. Мужчина только сказал:
— Они же ни в чем не виноваты.
Это были первые слова Рикардо Лаверде, которые я услышал. Больше он ничего не сказал: например, каких животных имел в виду, откуда он знал, что они голодают. Но его никто и об этом и не спросил, потому что все мы были достаточно взрослыми и помнили о лучших временах асьенды «Неаполь». Зоопарк был легендарным местом, которое, благодаря стараниям эксцентричного наркобарона, предлагало посетителям зрелище, в этих широтах невиданное. Я попал туда, когда мне было двенадцать, во время декабрьских каникул; побывал там, конечно, втайне от родителей: сама мысль о том, что их сын ступит на территорию общепризнанного мафиози, показалась бы им возмутительной, и речи быть не могло о том, чтобы сходить туда развлечься с их ведома.
Но и я не мог упустить возможность увидеть то, о чем говорили все.
Меня пригласил друг съездить туда с его родителями. Однажды в выходной мы встали пораньше, потому что от Боготы до Пуэрто-Триунфо добираться на машине часов шесть; и, проехав через каменные ворота (название асьенды было написано на них жирными синими буквами), мы провели полдня среди бенгальских тигров и амазонских ара, карликовых лошадей и бабочек размером с ладонь, там была даже пара индийских носорогов, которые, по словам парнишки в камуфляжном жилете, говорившим с сильным деревенским акцентом, только что прибыли в зоопарк. Были там, конечно, и бегемоты, ни один из которых еще не сбежал в те славные дни. Итак, я хорошо знал, о каких животных говорил этот человек, но не предполагал, что вспомню его слова почти четырнадцать лет спустя. Понятно, я подумал обо всем этом только потом, а тогда, за бильярдом, Рикардо Лаверде был лишь одним из многих, кто с изумлением следил за взлетами и падениями одного из самых известных колумбийцев всех времен, и я не обратил на него особого внимания.
Что я помню о том дне, это уж точно, так это то, что в его облике не было ничего устрашающего: он был настолько худ, что казался выше, чем был на самом деле, и нужно было увидеть его у стола с бильярдным кием, чтобы понять, что его рост едва достигал метра семидесяти. Его редкие волосы крысиного цвета, сухая кожа и длинные, всегда грязные ногти создавали впечатление болезненности и запущенности, как бывает запущен пустырь. Ему только что исполнилось сорок восемь, но он выглядел намного старше. Он говорил с усилием, словно ему не хватало воздуха; его пульс был настолько слабым, что синий кончик его кия всегда дрожал перед шаром, и было почти чудом, что ему частенько удавалось попасть по нему. Все в нем казалось уставшим. Однажды, когда Лаверде ушел, один из его товарищей по игре (человек его возраста, который двигался лучше, который дышал лучше, который, несомненно, еще жив и даже, возможно, читает эти воспоминания), открыл мне причину, хотя я не спрашивал его о чем-либо.
— Это все из-за тюрьмы, — сказал он, коротко блеснув золотым зубом. Тюрьма старит людей.
— Так он был в тюрьме?
— Только что вышел. Провел там лет двадцать, говорят.
— А за что?
— Этого я не знаю, — ответил мужчина. — Но что-то сделал, должно быть, верно? Ни за что так надолго не сажают.
Я, конечно же, поверил ему, у меня не было никаких оснований считать, что все могло быть и по-другому, не было причин сомневаться в первой попавшейся версии, которую кто-то рассказал мне о жизни Рикардо Лаверде. Я подумал, что никогда раньше не был знаком с бывшим заключенным, и мне стал любопытен Лаверде. Любой, кто отсидел такой долгий срок, всегда производит впечатление на молодого человека, каким я тогда был. Я подсчитал, что едва научился ходить, когда Лаверде попал в тюрьму, да и кого не тронет мысль о том, что ты вырос, получил образование, открыл для себя секс и, возможно, смерть (например, домашнего питомца, а затем, скажем, дедушки), у тебя были любовники, ты пережил болезненные разрывы отношений, познал удовольствие и раскаяние от принятых тобой решений, обнаружил у себя способность причинять боль, насладиться этим или почувствовать свою вину, - и все это же время некто прожил без каких-либо открытий и не получил никаких новых знаний, что само по себе является приговором. Прожитая, выстраданная тобой жизнь, ускользающая из твоих рук, а рядом — чья-то другая, никак непрожитая жизнь.
Мы незаметно сблизились. Сначала это происходило случайно: например, я похлопал одному из его ударов на биллиардном столе, — его соперник хорошо играл в предыдущих партиях, — а затем приглашал его поиграть за моим столом или спрашивал разрешение сыграть за его. Он принял меня неохотно, как опытный игрок ученика, хотя играл я лучше, и со мной Лаверде наконец-то перестал проигрывать. Но потом я обнаружил, что проигрыш не имел для него большого значения: деньги, которые он клал на изумрудную ткань для ставок, две-три потертые мятые купюры, были частью его повседневных расходов, некий пассив, предусмотренный его экономикой.
Бильярд был для Лаверде не хобби и даже не состязанием, а единственным способом принадлежать хоть к какому-то обществу: шум сталкивающихся шаров, щелчки деревянных костяшек на счетах, скрип голубого мела, которыми натирают нашлепки из старой кожи на наконечниках кия, — в этом и была вся его общественная жизнь. За пределами бильярдной, без кия в руке, у Лаверде не было возможности даже просто поболтать с кем-нибудь, не говоря уж о большем.
— Иногда я думаю, — сказал он мне в тот единственный раз, когда мы поговорили хоть сколько-нибудь серьезно, — что я никогда никому не смотрел в глаза.
Конечно, это было преувеличением, но я не уверен, что он преувеличивал намеренно. В конце концов, он не смотрел мне в глаза, когда говорил это.
Теперь, когда прошло так много лет, кажется просто невероятным, что я не придал значения его словам, но это сейчас, когда я знаю все, чего не знал тогда. (И в то же время я говорю себе, что мы паршивые судьи настоящего, возможно, потому что настоящего на самом-то деле нет: все — память, и даже эта фраза, которую я только что написал, а вы, читатель, прочли, — уже тоже стала воспоминанием).
Год заканчивался; наступало время экзаменов, занятия отменили; игра в бильярд заполняла мои дни, в какой-то степени придавая им форму и смысл.
— Ух ты, — говорил Рикардо Лаверде каждый раз, когда я входил. — Вот мне повезло, я уже собирался уходить.
Что-то в наших встречах вдруг изменилось: я понял это в тот вечер, когда Лаверде не простился со мной, как обычно, стоя у противоположной стороны стола и приложив по-солдатски руку ко лбу, оставляя меня с кием в руке, — но дождался, пока я расплатился за наши напитки, — четыре кофе с бренди и кока-кола напоследок, — вышел вместе со мной из биллиардной и зашагал рядом.
Он прошел со мной до площади Росарио среди запахов выхлопных труб, жареной арепы* и открытых дождевых люков; а когда мы дошли до пандуса, который спускается к темному входу в подземную автостоянку, едва хлопнул меня по плечу тонкой рукой, и это было больше похоже на ласку, чем на жест прощания, и сказал:
— Ладно, завтра увидимся. Мне кое-что нужно сделать.
Я видел, как он обогнул стайку уличных торговцев изумрудами, проследовал по пешеходной улочке, ведущей к Седьмому шоссе, а затем повернул за угол, и больше я его не видел.
Улицы уже начали украшать рождественскими огнями: все эти северные гирлянды и леденцы, надписи по-английски, силуэты снежинок в городе, где никогда не было снега и где декабрь, кстати сказать, самое солнечное время. Но выключенная иллюминация днем ничего не украшает: она только мешает обзору и даже делает город грязнее. Провода над нашими головами, переброшенные через улицы, напоминали подвесные мосты, а на Пласа-де-Боливар они взбирались, как вьюны, по электрическим столбам, по ионическим колоннам Капитолия, по стенам Кафедрального собора. У голубей, конечно же, теперь было больше проводов, чтобы посидеть отдохнуть, а продавцы жареной кукурузы едва успевали обслуживать туристов, равно как и уличные фотографы: пегие старики в фетровых шляпах пасли свои жертвы, как коров, а затем, фотографируя их, накрывались черной накидкой не потому, что этого требовала камера, а потому, что этого только и ждали клиенты. Эти фотографы были пережитком других времен, когда не каждый мог сам сделать собственный портрет, а идея купить на улице фото, сделанное кем-то (зачастую без твоего ведома), не казалась полным абсурдом.
У каждого жителя Боготы определенного возраста есть такой уличный снимок, большинство из них сделано на Седьмой улице, раньше она называлась Калле-Реаль-дель-Комерсио, королеве всех улиц города; мое поколение выросло, листая такие фотографии в семейных альбомах, все этих мужчин в костюмах-тройках, женщин в перчатках и с зонтиками, людей из другого времени, когда Богота была более холодной, дождливой и домашней, но не менее жесткой. В моем архиве есть фотография моего деда, сделанная в пятидесятые годы, и та, которую отец сделал пятнадцать лет спустя. А вот той, что Рикардо Лаверде сделал в тот день, нет, хотя изображение так ясно сохранилось в моей памяти, что я мог бы нарисовать его в точности, если бы у меня был хоть какой-то талант к рисованию. Но у меня его нет. Это один из тех талантов, которых у меня нет.
Итак, это и было делом Лаверде. Простившись со мной, он направился на Пласа-де-Боливар и сделал один из тех намеренно старомодных портретов, а на следующий день появился в бильярдной с результатом в руке: подписанным фотографом снимком в цветах сепии, на котором был запечатлен человек менее грустный и молчаливый, чем обычно, и можно сказать, более довольный, если общение с ним на протяжении последних нескольких месяцев не делают эту оценку слишком дерзкой.
Бильярдный стол еще был накрыт черным пластиковым чехлом, на него Лаверде и положил снимок и смотрел на него с восхищением: он выглядел хорошо причесанным, без единой складки на платье, на ладони его вытянутой правой руки что-то клевали два голубя; на заднем плане можно было разглядеть любопытствующую пару, оба с рюкзачками и в сандалиях, а вдалеке, совсем вдалеке, на одной линии с кукурузным лотком, увеличенным перспективой, Дворец правосудия.
— Хорошо получилось, — сказал я. — Это вчера?
— Да, вчера, — сказал он и без предисловий добавил: — Приезжает моя жена.
Он не сказал, что фото — подарок. И не объяснил, почему такой необычный подарок предназначен его жене. Ничего не сказал о годах, проведенных в тюрьме, хотя мне было ясно, что это обстоятельство повлияло на всю его ситуацию: стервятник над умирающей собакой.
В любом случае, Рикардо Лаверде вел себя так, словно никто в бильярдной не знал о его прошлом; в тот момент я почувствовал, что это поддерживает хрупкое равновесие в наших отношениях, и предпочел сохранить его.
________________________________
*Арепа — лепешка из перемолотых зерен кукурузы, популярная в Колумбии и соседних странах.