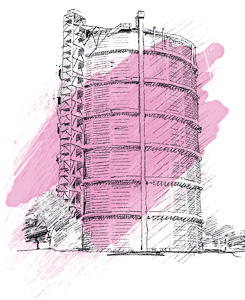Вадим Рутковский: Большой режиссер маленькой Европы
Fuck Ющенко (Пролог)
Все закончилось или, вернее, началось после «оранжевой революции», которую Жолдак встретил худруком Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко. Ученик Анатолия Васильева, изрядно взбодривший киевское театральное пространство спектаклями «Три сестры», «Кармен» и «Кто боится Вирджинии Вульф?» (где Марту играл Богдан Ступка, а ее мужа Джорджа – Ада Роговцева), возглавил театр в 2002-м – вернул ему историческое название «Березiль» и за три сезона превратил из заурядного «музично-драматичного» учреждения культуры в ведущий европейский театр. Кто в нем был, уже не забудет овчарок, тюремные табуреты и человека, восстающего из-под груды камней в «Одном дне Ивана Денисовича», или гигантскую рыбу, проносившуюся по как бы ушедшему под воду зрительному залу в «Гольдони. Венеция». Сергей Соловьев рассказывал о своем первом столкновении с театром Анатолия Васильева – не хочу ничего придумывать, ровно то же самое можно сказать о спектаклях Жолдака: «...Мне вдруг показали, что “чистого кино” и “чистого театра” может быть неизмеримо больше, чем двадцать секунд: эти мгновения, если вдруг повезет, могут длиться даже часами, если речь идет о театральном сочинении кого-то, природно ощущающего саму гениальность “игрушки театра”. (...) На меня покатили волны театрального опьянения, ослепления: и голубятня вдали, и живые голуби, и обалденная, незабываемая Алла Балтер в невероятном и нелепом желтом пальто, в черной мужской шляпе, и безумная шляпа эта на даме “у Горького” вроде как ни к селу ни к городу, а тут еще серебряный звук трубы Луи Армстронга (он-то к “Вассе” вообще для чего приляпан?!), и кто-то кого-то швыряет на стол – повод не помню, да и неважно... Все это, по-моему, был гениальный “чистый театр”. Его магия. Волшебство. Загадочная, таинственная, изменчивая, всегда волнующая, всегда живая, никогда не останавливающаяся, вечная и бесконечная плазма жизни и плазма искусства. Саморазвивающаяся, самоценная. К ней ничего не нужно добавлять, ее не нужно трактовать – ничего не нужно, нужно просто сидеть и смотреть. И чувствовать, как от восторга и сострадания обмирает сердце». Жолдак еще не использовал видео, на которое плотно подсядет с московской постановки «Федра. Золотой колос», но его театр уже граничил с кинематографом – и выполненный по киношным законам, через затемнение, монтаж театральных планов в «Месяце любви» под песню I Might Be Wrong, повергал даже не в опьянение, берите выше – в описанный Абелем Поссе интраоргазм; и глупо было бы задаваться вопросом «Radiohead к Тургеневу вообще для чего приляпан?». Фестиваль NET привозил спектакли Жолдака в Москву, «Балтийский дом» – в Петербург, и в российских столицах дивились парадам галлюцинаций, порой опасно буйной фантазии и умению подчинять массы – в постановках участвовало до полусотни человек. В России гастролировали почти все харьковские постановки Жолдака – кроме последней, «Ромео & Джульетты. Фрагмента», показанной публике пару раз на открытых репетициях в Харькове и один раз на театральном фестивале в Берлине (но некоторые спектакли не горят, и «Ромео & Джульетта» сохранился в относительно вменяемой видеозаписи). Новые харьковские власти, пришедшие после победы Ющенко, быстро прикрыли вольницу «Березiля». Экстаз «оранжевой революции» рассеялся, за революционным флером обнаружилась вечная обывательская косность. «Ромео & Джульетту» запретили, а Жолдака вынудили подписать заявление об увольнении – в бессмертных совковых традициях: предъявили письма от «общественных организаций», требовавших приструнить зарвавшегося художника, пригрозили проверкой хозяйственной деятельности, в обмен на увольнение «по собственному желанию» разрешили показать спектакль в Берлине. Легко увидеть причину запрета в эпизодах, нарушающих гласные и негласные табу: Жолдак раздел почти всю труппу, четыре десятка человек, догола и устроил имитацию коллективной скатологической оргии. Но, ручаюсь, не будь на сцене обнаженки и поддельных фекалий, все равно бы разгневались – только слишком свободный для чиновничьего понимания режиссер может построить без малого полуторачасовое действие на скандировании короткого пролога к трагедии или развернуть издевательский транспарант с цитатой из нового президента «Искусство должно быть духовным». Сам Жолдак трезво говорил о происшедшем, и фрагмент его старого интервью звучит до жути актуально: «Фактически они заявили, что сегодня в государственном театре режиссер должен быть предсказуемым. Их беспокоила именно непредсказуемость, сложный театральный язык. Но если так поступили со мной, самым сильным сегодня, то как они будут поступать с другими? Это что значит? Государственные чиновники будут указывать: “Мы даем вам, допустим, триста тысяч гривен, но смотрите, пожалуйста, чтобы в вашем произведении ясно читалось содержание, были национальные мотивы”. Однако тогда надобно все-таки узнать, насколько согласна с таким подходом общественность, должны ли уж так в дела искусства вмешиваться чиновники. И если мы не поднимем этот вопрос сегодня, наши театры обречены на выпуск второсортной по форме и примитивной по содержанию продукции».
Да, сам Ющенко напрямую с делом Жолдака не связан, но повод переиначить веселый оранжевый девиз «Так! Ющенко!» в «Fuck Ющенко» прямой: власть была в курсе, режиссер писал открытое письмо премьер-министру Юрию Еханурову – реакции не последовало, Жолдак покинул страну, сосредоточившись на постановках в Москве. На родину он ненадолго вернулся в 2008-м – в маленький город Черкассы, где и началась продолжающаяся по сей день одиссея большого режиссера маленькой Европы.
I. Черкассы
Три часа тряски в маршрутке от Киева до Черкасс – ерунда, их не замечаешь за видами сквозь пыльные стекла: дорога идет вдоль Каневского водохранилища, а при пересечении Кременчугского водохрана кажется, что раздолбанный автобус мчит прямо по воде. Тут культурный туризм превращается в экологический: в декабре в Черкассах плюс пятнадцать, и кажется, что разлегшиеся на аллее у театра предновогодние северные олени мигают всеми своими лампочками, потому что им жарко; в границах аккуратного маленького города есть вписанный в природный ландшафт и больше похожий на лес парк, а набережная такая, что таксисты удивляются просьбе отвезти к ней – никаких парапетов и степенно прогуливающихся пар, Днепр здесь не одет в цивильный гранит и течет среди скалистых, заросших диким кустарником берегов. Природа не окультурена – как та древняя человеческая природа, к которой тяготеет Жолдак.
В России все строят вертикали, Жолдаку на мнимую централизацию всегда было плевать, и его опыт опровергает любые возможные иерархии. Казалось бы, какое место занимает в «пищевой» театральной цепочке Черкасский музыкально-драматический имени все того же универсального Тараса Шевченко? Ну да, не первое. Но это только казалось, покуда Жолдак не выпустил там одновременно два шедевра – исторический эпос «Ленiн Love, Сталiн Love», рассказанный с прежде немыслимой повествовательной и политической внятностью, и безумного «Войцека», где среди мучителей героя фигурировали менты-содомиты, а Франц и Мария отправлялись к звездам на межпланетном корабле «Георг Бюхнер», сталкивались с космическими вампирами и испытывали то, о чем совсем другой человек сочинил популярную песню: «Я пытаюсь разучиться дышать, чтоб тебе хоть на минуту отдать того газа, что не умели ценить, но ты спишь и не знаешь, что над нами километры воды, что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватит на двоих. Я лежу в темноте». У украинских ханжей-охранителей был миллион поводов для возмущения – но все смикшировал патриотический «Ленiн, Сталiн», киевскую гастроль которого транслировало национальное телевидение. Впрочем, большая история в жолдаковском спектакле лишь подкрепляла важную для него лично идею свободы (и сайт режиссера называется Svoboda Zholdak Theatre).
Попасть в театр можно было, лишь протиснувшись сквозь специально выстроенный у входа барак, снаружи обтянутый кровавым кумачом, внутри завешанный фотографиями украинских детей, погибших во время голодомора тридцатых. В эффектном названии слово Love было самым верным антонимом людоедских имен, а сам трагический народный эпос выглядел своего рода ответом «Братьям и сестрам» Льва Додина. Полярный Додину почти во всем Жолдак не изменял своему сюрреалистическому видению, но виртуозно приспосабливал его к практически документальному тексту, роману Василя Барки «Желтый князь», развивал додинские темы и одновременно полемизировал с петербургским классиком, использовал в сценографии цитаты из «Чевенгура», опираясь не на интеллектуальные выкладки, а на эмоции. Пусть где-то наивные, но и то правда, что люди революции морили голодом, расстреливали и заживо закапывали в землю других людей – и надо проговаривать это прямым текстом, без обиняков и умствований.
В антракте мой украинский друг говорил, что хотел взобраться на сцену – дать дуплей комиссарам и их подручным, терзавшим раскулачиваемых крестьян, а я немного морщился, мол, ну да, играют достоверно, с чувством, и то, что Жолдак обратился к повествовательному театру, интересно, но и с видео он уже работал, и с прямолинейной русофобией перебор, и тема голодомора по-любому горячее исполнения, и, вообще, все, конечно, талантливо, но несколько плакатно. В финале, когда зал, как принято на Украине, аплодировал стоя, я даже и не думал от этого зала дистанцироваться и, забыв весь скепсис, поднялся, чтобы пять минут хлопать, не жалея рук.
Вновь после Харькова стало понятно, что с актерами Жолдак творит чудеса. Что знает, «как убить плохого артиста» (так называлась серия его мастер-классов) всегда и везде, включая украинский областной центр. Энергетическим центром спектакля была юная Вера Климковецкая (она играла крестьянских детей Андрейку и Аленку), студентка Киевского института имени Карпенко-Карого с обжигающими синими глазами. В финале она вынырнула из рукотворного сценического озера с залитым кровью подбородком. Спектакль «Войцек», назначенный на следующий день, пришлось отменить – в три часа ночи Веру увезли в больницу: зашили всерьез рассеченную губу и запретили разговаривать не меньше десяти дней.
Перенос «Войцека» привел к неожиданному дополнению уже готового спектакля – Жолдак добавил в видеопролог свежайшие на тот момент кадры скандального демонтажа памятника Ленину: по приказу мэра города Сергея Одарича его поздней ноябрьской ночью снесли с городской площади. Сегодня Черкассы в сводке горячих новостей из-за тектонических сдвигов, грозящих гибелью другому городскому монументу – Родине-матери на Холме Славы. Городские власти идут на экстремальные меры по спасению мемориального комплекса – иначе семидесятилетие Победы ознаменуется катастрофой. Это, конечно, фантазия, но я уверен, что Жолдак в тех старых спектаклях уловил суровые энергопотоки, бушующие в невидимых глазу сферах такой обманчиво спокойной провинциальной Украины.
II. Турку / Любовь / Кровь
Спустя шесть лет после черкасского трипа я приехал в Скопье на «Электру». Первое, что сказала встретившая меня в Национальном театре пресс-атташе Мария Димитриевска, – «Жолдака обожают наши актеры». О способности Жолдака влюблять в себя артистов ходят легенды, и я сам видел, с каким обожанием они смотрят на Андрия, – в финском Турку, после «Анны Карениной». Тот спектакль было невозможно вывезти на гастроли – из-за огромной, нетранспортабельной декорации, и в 2010 году фестиваль NET, включивший «Каренину» в программу, вывез Магомета к горе – то есть группу московских журналистов в Турку, тогдашнюю культурную столицу Европы (официально двуязычный, полуфинский, полушведский город известен и под шведским названием Або; побратим Санкт-Петербурга; от Хельсинки на поезде два часа). После спектакля нас познакомили с Жолдаком, Карениной и Вронским – Кристой Косонен и Маркусом Ярвенпаа, мы отправились пить в Panimoravintola Koulu – бар, устроенный в здании старой школы, Жолдак захватывающе говорил о театре, актеры – о Жолдаке. Его спектаклям они часто отдают даже кровь, буквально – как маленькая Вера Климковецкая, как Елена Калинина и Полина Толстун, что играют в петербургской «Мадам Бовари»: я сидел в первом ряду крошечного зала «Русской антрепризы им. Андрея Миронова», и кусок теста, разминаемого актрисами, отлетел от сцены и опустился на подлокотник соседнего кресла. Тесто было в крови. В македонском театре я оказался утром, когда монтаж декораций «Электры» только начинался; Мария устроила экскурсию, позволив заглянуть во все уголки, включая сцену. Первое, что я увидел на линолеуме, была капля крови – думаю, актерской, а не бутафорской.
Свое к профессии актера отношение Жолдак высказал в программном тексте – «Письме к еще не рожденным режиссерам и артистам», написанном для последнего представления «Вишневого сада» (2013) в Турку. Этот манифест – прекрасная лихорадочная литература, коллекция парадоксальных экзальтированных советов, венчающаяся обращением к людям будущего, которых Жолдак ухитряется находить – или создавать – здесь и сейчас. В первой части – правила выживания в театре: «Не верь актеру никогда. Убей в себе эту любовь к артисту. (...) Настоящий актер будет хотеть “спать” с тобой, делить с тобой эти ночи любви и ненависти, и настанут эти дрожащие кокаиновые образы репетиций между вами, интеллектуальные и психологические токи свяжут вас, молнии между вами и прорывы с вывихами ударят прямо в сердце... Не верь всему этому. Это все было до тебя с другими, и это есть сейчас с тобой, и это будет дальше уже без тебя. Актер запрограммирован на измену. Предать, чтобы победить тебя и забрать в свою нору и чтобы ты стал его трофеем, чтобы там, в норе, хищно уничтожить и выпотрошить тебя и забыть. (...) Актеры боятся смерти и грехов, как никакие другие люди на земле, даже не так смерти, как вскрытия своих тысячных мелких и больших Предательств, накопившихся в жизни и на сцене. Суть актера – предавать, изменять, обманывать, играть и еще раз играть, они заигрались, завертелись и потерялись. От этой потерянности Они стали мерзавцами, убийцами, заговорщиками, интриганами. (...) Но все имеет свой ответ и цену... появляется новое и бунтующее поколение честных режиссеров, для которых мы сегодняшние должны умертвить эту традицию, подготовить им почву».
Постскриптум – марш-бросок в идеальное будущее: «Те актеры, которые согласны или частично согласны с этими текстами, имеют возможность задуматься и восстать с этого лагеря рабов-гладиаторов. Сейчас только изменились формы, и вместо арены Колизея – новые трансформированные сцены театров... В этом замкнутом круге иногда рождаются, взрываются и другие Актеры. Это актеры-повстанцы, которым нечего уже терять, имя одному из них Спартак. (...) Есть большие театры-комбинаты, которые выпускают планово театральную продукцию, в которых живут и работают актеры, техники, администрация и продуценты. В этих гигантских гробницах-театрах находятся крысы актеры, и если к ним попадают молодые, открытые, талантливые, у которых горят глаза, которые жаждут искать истину и биться за правду, эти крысы-резиденты театров пускают их в свой удушливый, прогнивший, провонявший неправдой мир, но только с одним негласным условием – ты станешь один из нас... Их укусы и трупное дыхание входят в эту буйную молодежь, в эти горячие головы. Они заражают им кровь и сердце и ждут, когда со временем эти станут мутантами, когда они также с завистью будут коситься на новых и злиться на них, на этих чистых, кто пришел после них. (...) В моем разгоряченном воображении (а я не боюсь их, потому что не для них этот текст!) Спартак спускает отравительный газ в их норы и лабиринты-коридоры. Все. Дальше тишина. Они уничтожены. А дальше дело техники. Дальше придет команда спасателей, которые вынесут их смрадные трупы из театров, соскоблят и очистят стены, сцену и кресла, которые проникнуты их запахом и тенями. Все сдерется и дезактивируется, как после радиоактивного выброса. Театры и академии опечатываются. Они должны во времени отстояться... Зависнуть...»
III. Гисен
Университетский город, добраться до которого можно на электричке из Франкфурта-на-Майне. Напротив театра стоит динозавр – в натуральную величину, точь-в-точь как живой, странный и совершенно не вписывающийся в облик добропорядочного старинного города, где колокольный звон евангелической церкви Йоханнеса слышно в полудюжине кварталов, главная достопримечательность – известный на всю страну музей математики, в окружающем театр парке стоит памятник рентгеновским лучам, и рацио доминирует во всем – кроме разве что соседства надписи Jesus Lebt! и граффити Free Pussy Riot: Иисуса и современное искусство здесь любят одинаково?
Спектакль Жолдака здесь выглядит таким же неожиданным гостем, как верзила-динозавр на перекрестке. Вторая (после петербургского «Евгения Онегина») опера в его биографии, «Мирандолина» чеха Богуслава Мартину. Второе (после харьковского «Гольдони. Венеция») обращение к Гольдони – в основе либретто лежит комедия «Трактирщица». Харьковский «Гольдони» обволакивал томным и темным апокалиптическим туманом с запахом свечей и тлена, на этот раз фривольная любовная комедия сохранила жанровые черты, но изрядно усложнилась. Никакой мишуры, действие замкнуто на крохотном пространстве – узкий мост над оркестровой ямой, проломленный паркет, сцена спрятана за черной стеной. Буффонный эротизм первоисточника сменил эротизм христианской символики. Жолдак, кажется, стал вторым человеком на Земле после Пауля Верхувена, в фильме которого «Четвертый мужчина» герой, вожделевший брутального молодого человека, представлял парня распятым Христом. Жолдак придумал не менее сильные образы (в Христа здесь обращается вкусивший запретный плод Адам), а в качестве визуального антонима всякого эротизма использовал фото Ангелы Меркель. Немцы отнеслись с благодушным пониманием.
IV. Оберхаузен
Город метаморфоз и арт-провокаций знаменит крупнейшим фестивалем короткометражного кино и Газометром. Газометр – башня, оставшаяся от бурной индустриализации ХХ века и превращенная сегодня в музей современного искусства, – сооружение настолько величественное, что перед ним не устоял акционист-монументалист Христо: он упаковал Газометр, как упаковывал Рейхстаг и Пон-Неф.
Жолдака с этим городом связывают многолетние отношения – он ставил здесь «Сексус» Генри Миллера (2009) и «Идиота» Федора Достоевского (2011), я добрался к третьей постановке – «Превращению» по мотивам Кафки, спектаклю, для Жолдака неожиданно многословному, но не литературоцентричному. В этой «Метаморфозе» он со сногсшибательным буквализмом приравнял театр к кино, заставив актеров гримироваться прямо на сцене и транслируя «подготовительный» процесс на видеоэкраны. Кафкианский мутант Грегор Замза оказался чуть ли не единственным нормальным человеком в медленно, но верно слетающем с катушек социуме; в финале на сцену черным облаком выплывал фигляр в эсэсовском мундире, а экранный титр напоминал, что все три сестры писателя сгинули в нацистских лагерях. Но эта провокация кажется совсем невинной (и давно оправданной – о том, что тексты Кафки предвосхитили фашистский кошмар, рассуждал еще Брехт) рядом с другой – трое строгих и льстивых жильцов, за которыми в щелочку наблюдал насекомое Грегор, превратились в карикатурных евреев.
V. Скопье
«Электра» – последняя на сегодня постановка Жолдака, осуществлена в Национальном театре Македонии, неистовством, избыточностью и безграничной свободой походит на ранние харьковские спектакли. В какой-то момент могло показаться, что Жолдак остепенился – в его хельсинкском «Дяде Ване» Чехова было все-таки больше, чем собственно Жолдака. Дебют на оперной сцене – «Евгений Онегин» в Михайловском театре, принесший Андрию премию «Золотая маска», – был красивым респектабельным спектаклем, от порицания которого воздержались даже местные кликуши. «Мадам Бовари» – дикая, рок-н-ролльная, каким-то чудом уместившаяся на крохотной сцене петербургской «Русской антрепризы им. Андрея Миронова» – при всех галлюцинациях и «отклонениях» (Эмма Флобера пребывает в контакте с нашей современницей – питерской школьницей Эммой) остается повествовательным спектаклем-романом. Не то «Электра» – трех-с-половиной-часовой диджей-сет, в саундтреке которого Земфира соседствует с Ланой Дель Рей и гигантским фрагментом фонограммы из антониониевского «Приключения», имен Софокла и Еврипида в программке нет – «авторский проект Андрия Жолдака», драматический текст сведен к минимуму, понятному без перевода. Ключевую фразу «Jас сум Електра! Я убила свою мать» бросает в зал новое открытие Жолдака, юная Дарья Ризова. Но лучше слов говорит ее тело: физические действия, судорожные движения, похожие на неведомый ритуал – то ли крестное знамение, то ли стремление нанести рубленую рану. Среди действующих лиц – Электра в детстве в исполнении двух девочек и Иисус, в объятиях которого пытается обрести утешение героиня; христианский бог заменил античного Аполлона; распятие для мадам Бовари, возникшее в петербургском спектакле, трансформировалось в густой микс античных и языческих мотивов.
К бесчинствам на сцене располагает сам город – только не подумайте про малую родину матери Терезы плохого. Скопье – мирная столица; Македония, кстати, единственная из бывших республик Югославии пережила гибель страны, не пролив ни капли крови. Главная национальная трагедия, о которой напоминают остановившиеся в 5.17 часы на здании старого вокзала (теперь тут городской музей), – землетрясение 1963 года. Но Скопье – город, похожий на другую планету; ничего подобного в Европе точно нет. Из Москвы сюда попасть непросто – прямые рейсы отменили после банкротства «Македонских авиалиний», из греческих Салоник можно было бы за считанные часы доехать на электричке, если бы не финансовые проблемы уже у железнодорожников: интернет-гид советует преодолеть трехкилометровый участок от одного приграничного пункта до другого пешком – из-за чьей-то кому-то неуплаты железнодорожное сообщение прерывается (я добирался на машине из Белграда – по отличным дорогам, кто бы что ни думал про пережившую гражданскую войну Сербию). В том, что Скопье – другая планета, не сомневается даже Apple Maps: карта города на айпэде выглядит чистым полем, сквозь которое течет река Вардар. Судя по строительству в центральной части, Скопье переживает очередную метаморфозу, но дело даже не в обилии циклопических зданий, а в количестве статуй на квадратный метр. Представьте переполненный изваяниями музей Зураба Церетели на Пречистенке – и спроецируйте его на целый город. Сотни статуй теснятся на небольшом пространстве: львы, люди, Александры Македонские, великие воины Скандербеги, женщины-колоссы и сотни, сотни великих македонцев. Откуда столько героев? Македония с жадностью неофита, обретшего независимость, апроприирует всех, кто так или иначе связан с этой маленькой территорией. Величие новостроек контрастирует с многокилометровой барахолкой, растянувшейся вдоль Вардара: тут продают нитки, аудиоколонки, ржавые чайники, совсем не опознаваемый металлолом и горы DVD с порнографией. Собственно, и Жолдак без стеснения смешивает высокое и низкое, не разграничивая элитарность и китч, условный Висконти у него уживается с условным Брайаном Юзной, убийство Агамемнона, выхаркивающего кровь на прозрачную «четвертую» стену, – и хоррор, и высокая трагедия; нет границ, нет запретов.
Женщины / Будущее (Эпилог)
Дарья Ризова – новое лицо в галерее жолдаковских актрис. В Киеве и Харькове он подарил великие роли своей жене Виктории Спесивцевой, в Москве – Марии Мироновой и Елене Кореневой, в Черкассах – Вере Климковецкой, в Турку и Хельсинки – Кристе Косонен. Может, именно из-за «женской темы» переигрались планы в «Гоголь-центре»: Жолдак собирался ставить «Преступление и наказание», но в последний момент изменил название на «Грозу», где Катерину сыграет Елена Калинина, его Эмма Бовари, а Кабаниху – Яна Троянова, звезда фильмов «Кококо», «Волчок» и «Жить». Трудно предсказать, каким будет «Слуга двух господ» в БДТ, напомнит ли он о торжественно-мрачной фреске «Гольдони. Венеция» или заимствует озорство у главного героя, неунывающего Труффальдино. Не угадать и насколько значимым останется сам арлекин, но «мужские» спектакли у Жолдака тоже были – и какие! «Москва–Петушки» в «Балтийском доме» с седобородым титаном из театра Някрошюса Meno Fortas Владасом Багдонасом – интимный эпос, где Венедикт Ерофеев обретал черты русского Просперо, пьющего мага, повелевающего стихиями на краю земли. Почти на краю земли в ту минуту, что я пишу этот текст, находится и сам Жолдак – за полтора месяца до премьеры в БДТ он уехал в Бразилию. Есть вероятность, что карта театра Жолдака станет еще масштабнее.С