
К анализу экзистенциальных стратегий
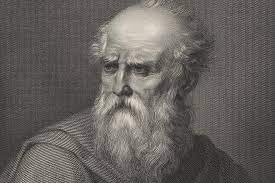
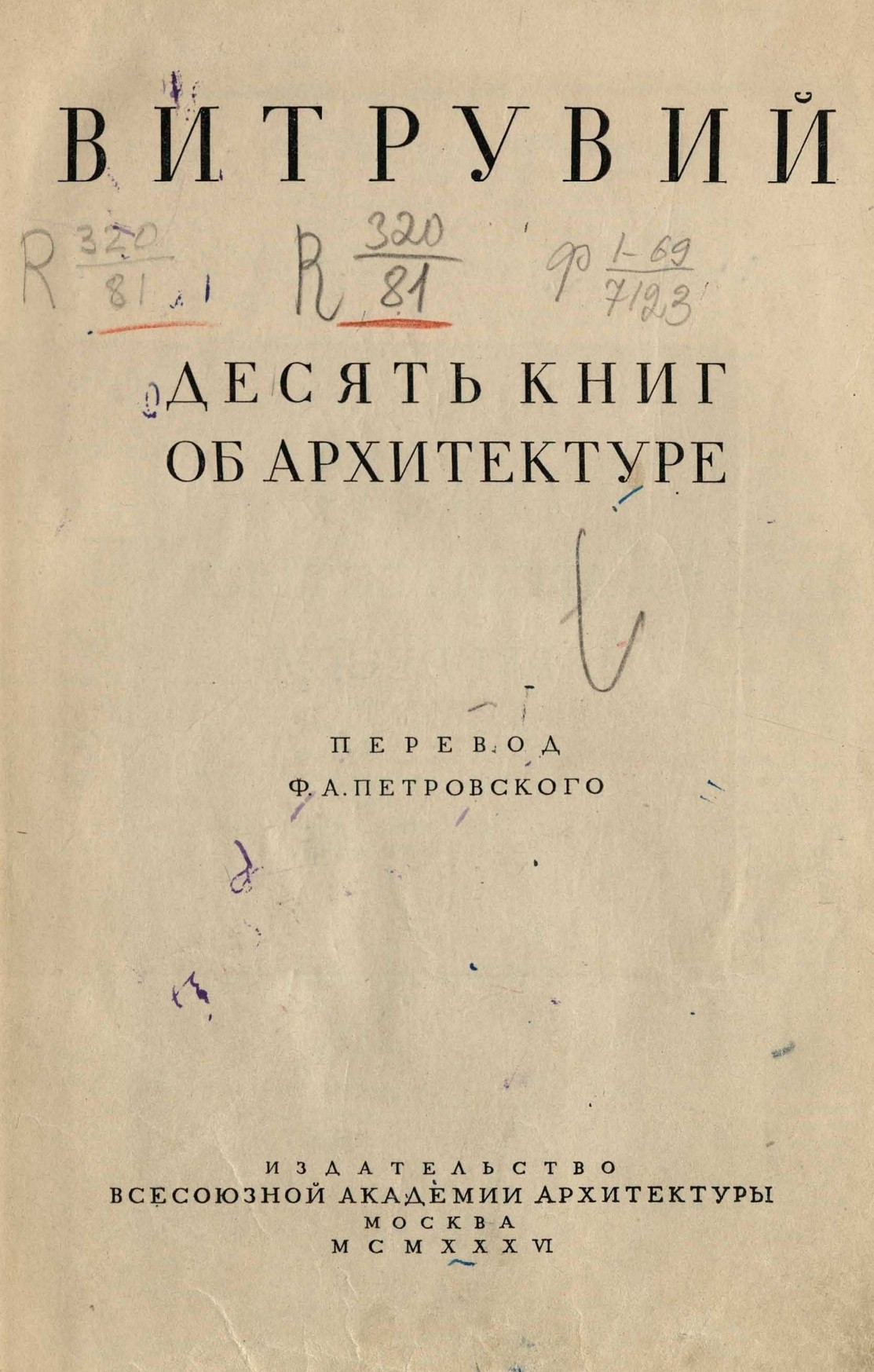
Витрувий считал, что «...архитектор должен быть человеком грамотным, умелым рисовальщиком, изучить геометрию, всесторонне знать историю и внимательно слушать философов» (с.20). С тех пор, как он рекомендовал заняться этим последним, прошло около двух тысяч лет -- надо полагать, архитекторы наслушались достаточно. Философствование стало среди них занятием обыденным и обиходным, и даже необходимость в слушании философов отпала, поскольку теперь они могут с успехом слушать друг друга.
Архитектурным критикам в смысле философии повезло меньше. Русское архитектуроведение встречалось с философией один раз -- в лице Александра Габричевского,

пытавшегося выстроить архитектуроведческий дискурс на основе феноменологии Гуссерля.
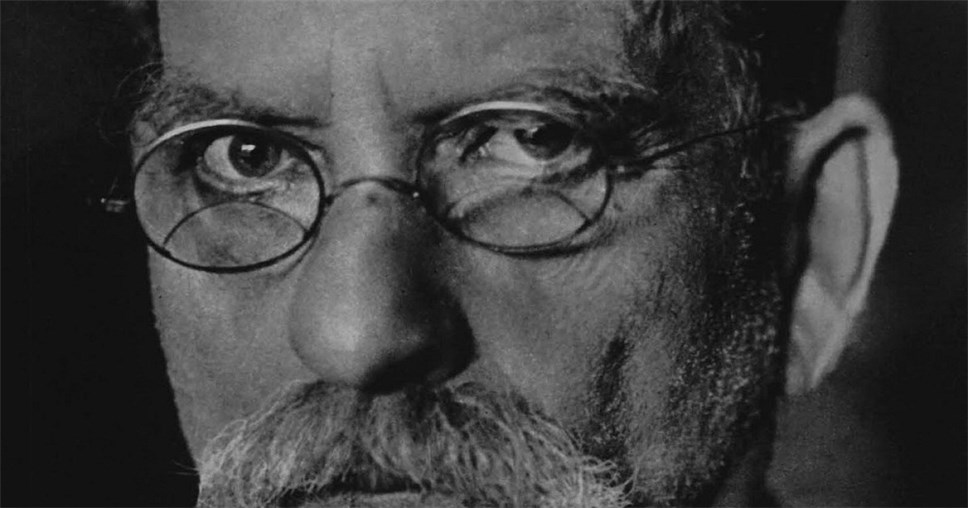
После этой встречи оно выработало свою самостоятельную проблематику -- функция, конструкция, материал, -- не без внутреннего сопротивления добавило сюда искусствоведческие вопросы стиля, структуры художественного образа, "традиции и новаторства" и другие, и приобрело характер вполне автономной дисциплины.
Вне всякого сомнения, блестящей.
Автор с неудовольствием отдает себе отчет в том, что предлагаемые читателю очерки вообще-то выпадают из нее. В каком-то смысле эти размышления являются результатом исполнения архитектурным критиком упомянутого пожелания Витрувия, в силу чего маргинальны и в отношении архитектуроведения, которое философией не занимается, и в отношении философии, которое не интересуется архитектуроведением.
Причина, подвигшая автора на это маргинальное предприятие, лежит вне сферы науки. Собранные очерки объединяет одна скрепка -- попытка найти интонацию размышлений об архитектуре после того, как закончилась советская наука об искусстве.
Я вполне понимаю сомнительность этого предприятия. Считать, что наука об искусстве закончилась в связи с концом советской власти -- значит утверждать, что она была с этой властью связана. Что звучит почти обвинением. Искусствознание на русском языке (по крайней мере, та его часть, которую имеет смысл обсуждать) считало себя властью не ангажированным. Поэтому пытаться менять его интонацию по случаю окончания власти коммунистов по меньшей мере неуместно.
Извинением может служить то соображение, что некие изменения в связи с концом советской власти могли произойти и в головах людей, ею не ангажированных. Ведь структура советского универсума могла влиять не только на тех, кто ее поддерживал, но и на тех, кто ей противостоял.
Я попробую пояснить сказанное, сопоставляя два текста. Один -- исследование русской культуры рубежа XVIII-XIX вв. в связи с анализом "Евгения Онегина" у Ю.М.Лотмана.
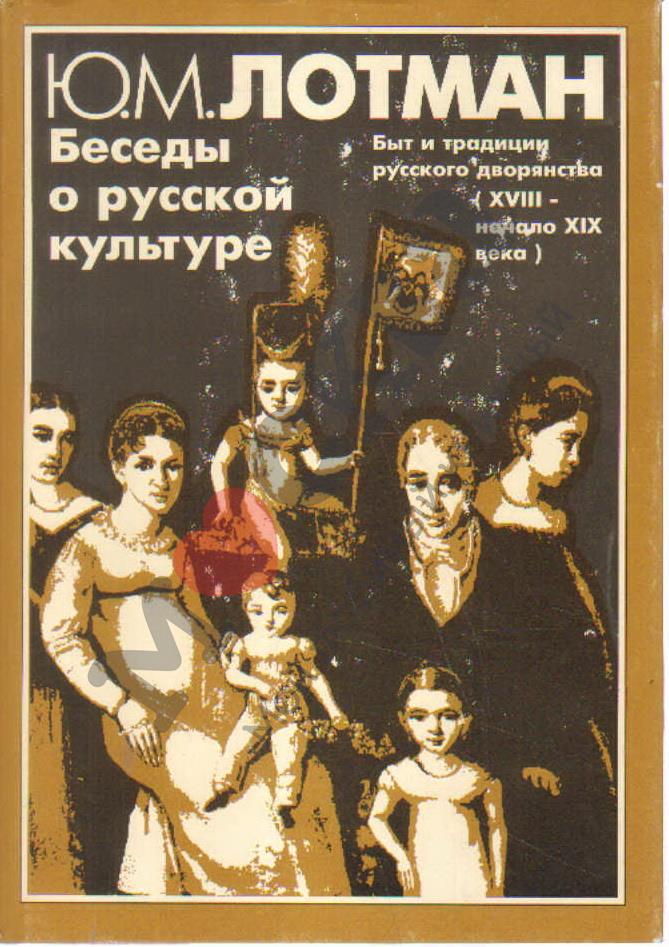
Второй -- исследование Расина у Ролана Барта.
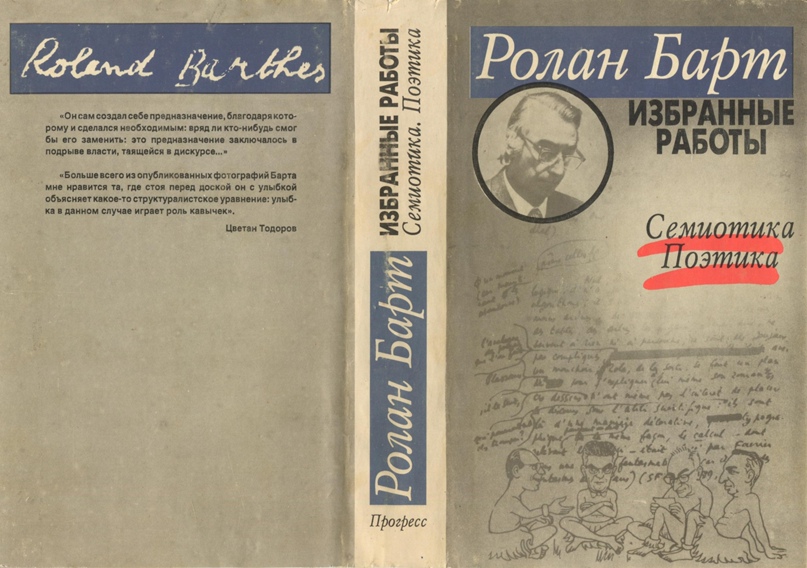
Барт -- классик французского структурализма, Лотман -- русского. В обоих случаях речь идет о структуре пространства произведения. Структура организована последовательностями оппозиций. Меня интересует то, как эта структура переживается человеком.
Итак, Лотман. Описывается бал. «Возникала грамматика бала, а сам он складывался в некое целостное театрализованное представление, в котором каждому элементу (от входа в залу до разъезда) соответствовали типовые эмоции, фабрикованные значения, стили поведения. Однако строгий ритуал, приближавший бал к параду, делал тем более значимыми возможные отступления, «бальные вольности», которые композиционно возрастали к его финалу, строя бал, как борение «порядка» и «свободы». (Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С.91). Далее исследуются пространства полонеза, вальса и мазурки с подробным описанием семантических валентностей каждого из них.
Мы сталкиваемся с уютнейшим миром русского дворянского быта. Человеку в нем хорошо. Хорошо на балу, хорошо дома, хорошо даже на дуэли -- везде ты оказываешься в стабильном, центрированном, иерархизованном пространстве, и оно как бы ждет тебя. Переводя это впечатление в архитектурный образ, можно сказать, что мир художественного произведения оказывается чем-то вроде колонного зала, когда две колоннады по сторонам образуют ряды непримиримых оппозиций, а герой движется по центру уверенной светской походкой.
Мир, открываемый Бартом, выглядит следующим образом: "<...> Трагедийные места - это иссушенные земли, зажатые между морем и пустыней, тень и солнце в абсолютном выражении. <...> Хотя все действие протекает в одной точке, мы можем сказать, что у Расина есть три трагедийных места. <...> Имеется, во-первых, Покой - <...> это наводящее страх место, где таится Власть. <...> Покой граничит со вторым трагедийным местом, которым является Преддверие, здесь трагический герой беспомощно блуждает между буквой и смыслом вещей, выговаривает свои побуждения. <...>Третье трагедийное место - внешний мир - это уже зона отрицания трагедии. <...> Уход героя во внешний мир так или иначе равнозначен смерти, <...> как если бы сам воздух наружного мира обращал его в прах."
(Ролан Барт. Расиновский человек. // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.,1989. С.146-147.)
Это мир, где твое существование постоянно ставится под угрозу. Всюду опасности, шаг влево, шаг вправо -- распадаешься в прах. Удержание равновесия -- не данность мира, но твоя личная ответственность, и неизвестно, получится ли. Архитектурный образ, соответствующий этому -- скорее пространство авангардной деконструкции, чем колонный зал.
Одна и та же методология, один и тот же тип исследования -- две принципиально различные версии пространства. Вряд ли различие коренится только в глубоком несходстве между собой Пушкина и Расина. Можно предположить, что дело и в позиции исследователей.
Приведенный пример - следствие различия русского и французского структурализма, которое мне кажется определяющим. Русский структурализм строил централизованные иерархические виртуальные системы. Французский -- если отсчитывать его от Леви-Строса -- начал с того, что уничтожил всякие следы представлений о смысловом центре системы. Миры, открывавшиеся русским структурализмом -- будь то дворянский мир пушкинской эпохи или балто-славянский Пантеон -- раскрывали перед читателем необыкновенные культурные богатства и отличались стабильной приветливостью. Они -- очень просветительские по интонации пространства.
Миры французского структурализма больше всего напоминают тюрьму, где тебе изощренную пытаются репрессировать. Любая смысловая структура, которую удавалось обнаружить тому же Барту, Мишелю Фуко и другим гениям французской школы, оценивалась ими с точки зрения насилия, которое пытается произвести социум над личностью. Язык тебя заставляет говорить так-то, стертые метафоры -- делать такие-то аналогии, общепринятые представления -- совершать такие-то поступки. Обнаружение структуры здесь -- не столько стремление открыть, как устроен некий далекий мир, сколько стремление обезоружить здешний, близкий.
В сущности, распределение рольей между французами и русскими забавно. Должно быть наоборот. Это русский структурализм и русская семиотика проживали в советском контексте, и наиболее разумной стратегией в отношении него было бы как раз изобретение гуманитарной техники безопасности. И наоборот французский структурализм развивался в условиях вполне приятных, когда столь тщательная и интеллектуально изощренная забота, чтобы тебя кто-нибудь не репрессировал, выглядит прямо-таки болезненной мнительностью.
Советская наука строит пространства, альтернативные советскому универсуму, но как бы соразмерные ему в своей грандиозности. Именно соразмерность строений служит гарантией независимости от идеологического поля. Но строения оказываются как бы изоморфными -- в некотором смысле балто-славянский Пантеон начинает напоминать Политбюро.
Единый центр, иерархия поддерживающих его оппозиций, стабильность, молчаливо предполагающая, что данная конструкция существует вечно.
В противоположность этому французский структурализм не столько пытается создавать альтернативные существующим культурные ландшафты, но рассматривает любое событие в рамках непрерывающегося культурного континуума самоопределения человека, где насилие над говорящим со стороны общепринятой системы гласных и насилие над гражданином со стороны репрессивных органов -- суть синонимичные жесты. Никакой системы стабильности не существует -- есть событийный поток и стратегия поведения в нем.
Я говорил о структуралистской парадигме постольку, поскольку из всего русского гуманитарного знания последних сорока лет только она оказалась "конвертируемым" товаром. Посему есть возможность сравнивать. Но стремление к построению автономных стабильных зданий, самим себе нужных и на себе держащихся, как представляется, характеризует большинство гуманитарных наук позднесоветского времени, независимо от степени их "конвертируемости" в западный контекст.
В конечном итоге смыслом любых гуманитарных размышлений является гармонизация отношений с самим собой -- в какой-то момент оказалось, что модель автономного центрированного иерархичного стабильного пространства, дающего тебе приют в бегстве от другого такого же пространства, перестала что-либо гармонизировать. Когда я говорю о том, что советская наука закончилась, я имею в виду то, что окончилась время возведения таких построек. Экзистенциально они были обоснованы не только изнутри, но и извне -- конструкцией советского мира.
Они обслуживали духовный опыт человека, который не то, чтобы заворожено смотрит на этот мир, но заворожено от него отворачивается. Энергия этого "отворачивания" определяла степень внимательности, с которой разглядывалась альтернативная картина, и когда оглядываться стало некуда, стало некуда и смотреть.
В связи с окончанием советской власти выяснилось, что гуманитарные размышления являются частным делом размышляющего и предпринимаются им на свой страх и риск. A priori они никому не нужны, a posteriori возможно окажется, что они кому-то еще понадобятся. Но это не вопрос поддерживающих их научных институтов или научных школ, распад которых в 90-е годы составлял фон написания этих очерков, это вопрос твоего личного интереса и твоего личного риска.
Так вот -- мне хотелось бы понять архитектуру точно также. То есть как предприятие, в которое человек впадает на свой страх и риск, исходя из своих внутренних коллизий. И мне представляется, что интонации для такого понимания пока не найдено.
Об архитектуре говорят либо языком архитекторов, либо искусствоведов. Начнем с архитекторов. Результаты их длительного вслушивания в разговоры философов привели к появлению исключительно закрытого, внутренне противоречивого и закомплексованного профессионального дискурса.
В данном случае я отталкиваюсь от опыта своего функционирования в качестве архитектурного критика, то есть опыта долгих бесед с архитекторами. Дальнейшая характеристика представляет собой, таким образом, раздраженные результаты этих бесед. Дискурс архитекторов формируется из двух основных составляющих. Во-первых, постольку, поскольку архитектура представляет собой продукт промышленности, это слова, связанные с экономико-производственной сферой. Эта сфера для архитекторов оккупирована социальной философией XIX века. Разумеется, есть и другие слова на ту же тему, но архитекторы, наслушавшись одних философов, уже не слушают других. Посему идеи «прогресса», «социальной ответственности», «пользы», «революции» остаются для них глубокими истинами, которым они поклоняются и служат с позитивной простотой прямо-таки времен Чернышевского.
Во-вторых, поскольку архитектура представляет собой продукт искусства, это слова, связанные со сферой авангарда ХХ века. В отличие от комплекса социальных идей XIX века, которые характеризовались известным гуманизмом, либерализмом и вообще сдержанным уважением к предмету размышлений, этот дискурс антигуманен, антилиберален, антисоциален и склонен к несдержанному эпатажу всех, кто попадется ему под руку. Он тоже продуцирует из себя некие слова-мифы «жест», «новация», «противостояние», «право быть непонятым», и эти слова тоже чрезвычайно важны для архитекторского дискурса.
Вместе получается гремучая смесь. Берем центральное слово-миф архитектурного дискурса -- "новация". Новация одновременно понимается и как беспрецедентный художественный жест, и как шаг на пути научно-технического прогресса. Новация посему должна одновременно быть непонятной никому как действие радикального художника, и быть полезной всем как новый товар, осчастливливающий потребителя. В качестве художественной новации это действие должно навязываться обществу, поскольку общество в мифологии искусства ХХ века имеет обязанность постоянного дорастания до уровня искусства. В качестве товара, однако, та же новация должна свободно приобретаться потребителями, которым нельзя ничего навязывать по правилам свободной конкуренции товаров. Так что новация в архитектуре -- это радикальный художественный жест по предложению нового товара, который осчастливит покупателя, будучи ему свободно навязан.
При этом архитектор по своей природе -- тот, кто действует, тот, кто принимает решения и за них отвечает. И философия архитектора – это философия деятеля, так что в известном смысле это скорее не философия, а вера. Основным свойством архитекторского дискурса является его нерефлексивность. Попытка проанализировать, что понимается под той же "новацией", «социальной ответственностью», «революцией» воспринимаются архитекторами как кощунство. Они деятельно отказываются задумываться над смыслом слов, освящающих их действия.
Размышляя над этими словами, соединяющими осколки диаметрально противоположных философских систем и мировоззрений, вдруг обнаруживаешь, что единственным смыслом этой архитектурной философии является попытка опереться на некоторые нерефлексивные глобалитеты (мифы). Роль таких глобалитетов и играют «новация», «социальная ответственность», «радикальный жест».
Такая стратегия опоры разумна. Архитектура дорого стоит, и общество всегда подозревает архитектора в желании самовыразиться за чужой счет. Посему легитимизация своего творчества и через слова о социальной ответственности перед научно-техническим прогрессом, и через слова о художественной революции, являются правильным жестом защиты от общественных подозрений. Но тогда очевидно, что это не попытка найти слова о том, что ты делаешь на свой страх и риск, но найти слова, чтобы тебя никто об этом не спросил. Каждый спрашивающий будет биться головой об стенку "новации", "прогресса", "новых конструкций, функций, материалов" и никуда никогда не пробьется.
Искусствоведы говорят об архитектуре совершенно по-другому. У них выработана своя четырехтактная схема разговора, которая, как любая симметричная композиция, выглядит логичной и неуязвимой.
Вначале следует фактография, за ней— иконография. Это те слои информации, которые существуют до факта произведения. Виллу архитектор получает как готовый тип, и то, как она в принципе устроена, относится не к сфере его творчества, а к сфере его профессионализма. Знание типов или иконорграфических схем можно уподобить если не знанию писателем алфавита, то знанию им жанров — еще до того, как он начал писать, он в принципе представляет себе, пишет он роман или пьесу.
Далее вступает в силу стилистический анализ. Если фактография и иконография дают нам сведения о том, что художник получил еще до факта произведения, то стилистический анализ в принципе призван отвечать на вопрос о том, что он сделал с полученным. Скажем, получив тип виллы в таком-то году, он его гармонизировал, или драматизировал, или рационализовал, или, вообще, японизировал. В любом случае это он что-то с этим типом сделал.
И, наконец, на четвертом этапе нужно объяснить, почему все это так произошло. То есть найти некое соответствие между тем, что сделал данный архитектор с данным типом в данном году с тем, что эпоха, располагающаяся вокруг этого года, делала вообще и, установив, правомерно объявить архитектора агентом эпохи.
При всем изяществе и полноте этой схемы есть одно обстоятельство, которое, как мне кажется, связывает ее со стратегией построения больших систем. За каждым из тактов этой схемы стоит некая версия порядка, к которой, собственно, и апеллирует исследователь.
С фактографией ситуация ясна — это царство безнадежно отвоеванное позитивизмом. Обратимся к нормальному языковому чувству. Оборот речи «Платон согласен с Марксом в том, что...» является нормальным для философии, а оборот «Палладио согласен с конструктивизмом в том, что...» является вполне диким для архитектуроведения. Это отличие в достаточной степени проясняет структуру искусствоведческого дискурса и его отличие от философского. Философия -- это пространство философствования, где люди -- умершие и ныне живущие -- говорят одновременно. Искусствознание -- прежде всего история искусства, а не пространство художественной мысли. Тут уж ничего не поделаешь. Никакие деконструкции не способны повлиять на добропорядочные представления историков о том, что главный смысл гуманитарных размышлений состоит в расположении духовных, творческих, политических или бытовых событий на хронологической оси.
Но и на следующих уровнях мы также сталкиваемся с идеей тотального порядка. Иконография мыслится как набор схем. В разные эпохи этот набор устойчив более или менее, но мы в любом случае будем изучать его не в сторону неустойчивости, но в сторону устойчивости. Хотя в принципе известны случаи, когда писатель, начиная свое предприятие, еще не вполне уверен, что у него получится — пьеса или роман, но нам удобнее считать, что он все-таки это знает, пусть и подсознательно. То есть набор типов, жанров, схем есть алфавит, и наша задача -- установить состояние букв в некотором году и царстве. Это представление трудно объяснить иначе, чем взыскуемым образом библиотеки, где все расставлено по порядку, все сложено, и каждой иконографической схеме отведен свой ящичек, как когда-то замышлял основатель иконографии А.Варбург

и как это воплощено в любом иконографическом лексиконе.
Что же касается стилистического анализа, тот тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Вроде бы это и есть самая сердцевина анализа творчества -- художественной формы -- то есть неповторимого личного следа мастера. Но ведь не из исследований иконографии, где это еще можно себе представить, а именно из исследований стиля родился столь взволновавший гуманитарную мысль лозунг Вельфлина «истории искусства без имен».

Безымянная неповторимость -- это примерно как поиск архитектурным модернизмом повторяющейся уникальности. Нет, конечно, желание ученого избавится от имен понятно и почтенно -- имена мешают своей случайностью и непредсказуемость поведения. Но момент уничтожения "своего страха и риска" совершенно очевиден.
Пусть даже история мыслится как некий ряд, закономерный хотя бы постольку, поскольку он не подлежит изменениям. Пусть даже она — история -- сфера действия эволюции и прогресса. Хотя любой философ истории сегодня скорее изумится дремучести такого гегельянства, историку искусства даже удобнее видеть исторический процесс как подобные архаические потемки -- приятнее заниматься лучом света, а не темным царством. Но искусство-то с этим гегельянским рядом не совпадает. Иосиф Бродский

в Нобелевской лекции говорит: «Обладающее собственной генеалогией, динамикой, логикой и будущим, искусство не синонимично, но, в лучшем случае, параллельно истории» (с.8). Что вроде бы вполне очевидно для всякого, кто начинает изучать, из какого сора чего растет. Но как только выросшее начинает систематизироваться, то есть укладываться в свою "генеалогию, динамику, логику и будущее", получается вполне тождественный истории процесс. Спрашивается, как сохранить это ощущение параллельности тогда, когда вместо искусства начинается его история?
Единственно известной мне возможностью является последовательное удержание индивидуализма. Методологический индивидуализм (скажем, в варианте фон Хайека)
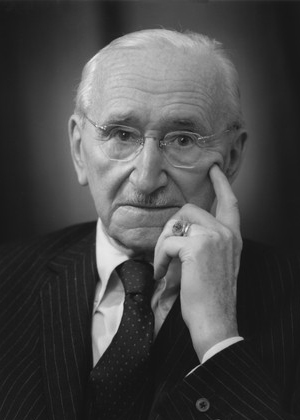
предполагает, что любые глобалитеты – стиль и жест, революция и художественная новация – есть методологические абстракции, удобные для описания, но не более того. Реальность – только личность с ее заданной траекторией движения от рождения к смерти.
На первый взгляд нет никакого смысла городить весь этот огород, потому что архитектуроведению прекрасно ведом тип рассказа о таком движении. Жанр этот превосходно разработан, называется он монографией об архитекторе. Тут вроде бы не надо никакой методологии, надо просто рассказать, «как было». Еще в детстве архитектор такой-то проявлял замечательные способности. Способного ребенка заметил такой-то. Годы учебы ознаменовались уважением со стороны преподавателей и товарищей. Дипломный проект посвящен. И так далее -- до первой гениальной работы.
Однако, увы, в этом жанре есть методологический стержень, да еще какой. Природа его легко проясняется при попытке инверсии. Например – еще в детстве архитектор такой-то не проявлял никаких способностей. Нерадивого тупицу никто не замечал. По протекции дяди со стороны матери его засунули в институт, где он с трудом дотянул до диплома. И так далее – до первой гениальной работы.
Так написать об архитекторе невозможно – поэтому монографиями о гениях с биографическими отклонениями (например, о Воронихине)

испытывают отчаянные сложности с первой (жизнеописательной) главой. Невозможность инверсии ясно демонстрирует, что жанр восходит к агиографии (житийной литературе), а через нее -- к античным повестованиям о богах и героях. Этот жанр замечателен, но безнадежно герметичен. В конечном счете, его источником является, по-видимому, надгробная речь, и тот предел, который создает гроб, оказывается невозможно преодолеть -- изложенный опыт биографии умершего всегда является абсолютно уникальным и безнадежно утраченным.
В таком случае перед нами очевидная апория. С одной стороны методологический индивидуализм требует отказаться от глобалитетов, с другой, отказавшись от них, мы не в состоянии вырваться за границы индивидуального опыта.
Менее всего мне бы хотелось отменить все присущие архитектуроведению методологические абстракции -- иначе роль критика сведется к постоянным выступлениям над гробом. Нужно сохранить и их, и методологический индивидуализм. Это желание не настолько абсурдно, насколько кажется на первый взгляд.
Возьмем пример фрейдизма. Я приведу три его интерпретации.
В варианте самого Фрейда
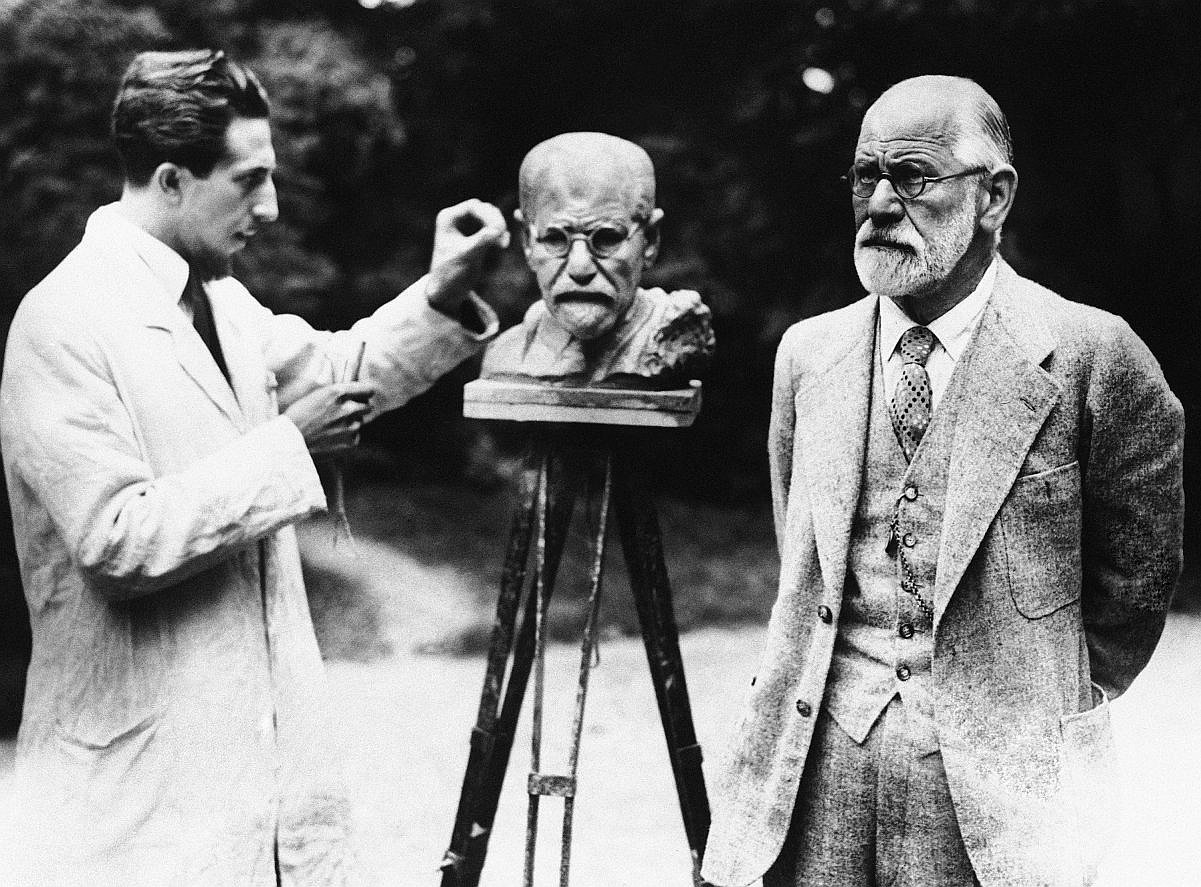
-- имеется в виду не его практика психоанализа, но его анализ произведений искусства -- структура подсознательного есть еще одна структура детерминации личности. Леонардо нарисовал нечто постольку, поскольку структура его психики управлялась такими-то комплексами. В рамках такой картинки личность Леонардо полностью отсутствует, он оказывается агентом некоего процесса, самому ему неведомого и неясного. Это вызывает живое чувство отторжения тем более сильное, что сам процесс не вызывает никакой симпатии -- в результате у нас получается, что вполне симпатичное искусство Леонардо оказалось функцией какой-то гадости.
В переинтерпретации Сартра в его книге о Фрейде
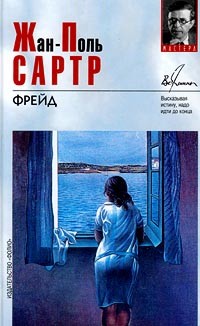
картина сильно поменялась. Круг психоаналитических смыслов превратился у него в систему, глубоко враждебную человеку, но существующую. Оказалось, что это вызов, на который необходимо дать некий ответ. Фрейд и пытается придумать, как отвечать на эти вновь открытые неприятности. Стоило ввести фигуру самого Фрейда, который тоже испытывает какие-то эмоции в связи с открывшимися ему обстоятельствами -- и мы получили принципиально иную структуру. Вместо представления личности агентом несимпатичного процесса подавления комплексов и желаний мы получаем диалог двух разных структур -- психоаналитических смыслов и гуманистической традиции.
В интерпретации Ричарда Рорти та же ситуация приобрела уже прямо противоположный смысл.
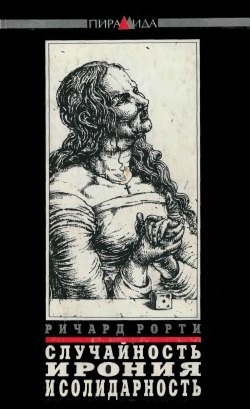
По его мнению, Фрейд совершил подлинный прорыв в области обоснования человеческой свободы (только что речь шла о полной детерминации). Он доказал, что человеческая личность не является функцией какого-либо предустановленного замысла (неважно какого -- божественного, генетического или социального), ибо она принципиально случайна. Последовательность детских впечатлений, травм и комплексов невозможно предсказать и проконтролировать. Тем самым случайность является основной категорией формирования личности. Раз так, личность ничем принципиально не может быть детерминирована. То есть свободна на уровне структуры.
Меня в данном случае интересует не сам поворот психоанализа -- эта методология используется в представленных очерках всего один раз и в совершенно инвертированном виде, когда не искусство объясняется с помощью психоанализа, а психоанализ с помощью искусства. Меня интересует структурный сдвиг. А именно -- вместо объяснения действий личности с помощью глобалитета возникает отдельно субъект, а отдельно глобалитет, и между ними ведется диалог.
Применительно, скажем, к формальному искусствознанию ситуация выглядит так. Есть глобалитет стиля. В рамках формальной школы мы получаем следующую картинку. Стиль мастера есть частный случай стиля школы, который частный случай стиля страны, который частный случай стиля эпохи.
Субъектом собственно оказывается этот последний. В самой философски насыщенной русской работе о формальном методе -- книге А.И.Каплуна "Стиль и архитектура" --
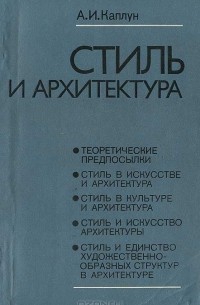
архитектурный стиль и стиль эпохи разделены таким способом. Стиль эпохи -- это эпоха как она есть, архитектурный стиль -- это то, как она желает себя видеть. Эпоха в этом случае становится не только субъектом, но даже женщиной, наделенной волей выбирать, как бы нарядиться поэффектнее. Что же касается мастера, то он, разумеется, оказывается вполне безвольным агентом этого глобалитета (этой глобалитетки). Его именем можно пренебречь примерно так же, как пренебрегают именем парикмахера. Если же произвести изоморфный описанной ситуацией с психоанализом структурный сдвиг, то получается схема, в которой есть не один субъект, а два -- отдельно мастер, отдельно -- вся иерархия стиля, и между ними происходит диалог.
Ту же диалогизацию можно производить с каждым из трех разделов упомянутой четырехтактной схемы искусствоведческой интерпретации. Есть личность, и она не является агентом словаря иконографических схем, она находится с этим словарем в конфликтных диалогических отношениях. Есть личность, и есть стиль (эпохи, страны, школы), и творчество есть диалог между одним и другим. Как это не забавно, с хронологией человек тоже находится в отношения диалога, постоянно желая выбрать себе не то время, в которое его поместила история, а какое-нибудь другое, более ему подходящее (откуда все Ренессансы и футуризмы). В качестве четвертого такта мы получаем не синтез трех предыдущих, но их довольно-таки раздраженный спор (ср. переосмысление Библером гегелевской триады в конструкцию "тезис -- антитезис -- диалог).

Проблема только в том, что, обретая одного персонажа этого диалога -- мастера, мы немедленно ставим под удар другого -- глобалитет. Ибо что же такое "стиль школы" или "словарь символов", если мастер у нас -- отдельно от этого? Мы возвращаемся к той же апории, которая была заявлена выше.
Выход из нее мне видится только в том, что тоску по глобалитетам испытывают не только критики, но и подведомственные им критикуемые. Это достаточно просто. Желание раствориться в чем-то большем, чем ты сам -- в стиле эпохи или в словаре, в революции или в новых строительных материалах -- самое что ни на есть нормальное человеческое желание. Оно не только позволяет тебе думать, что твое творчество -- правильное. Оно позволяет тебе надеяться, что ты приобщился к чему-то большему, чем твоя личная человеческая жизнь.
Что означает -- за каждым из глобалитетов стоит разговор со смертью.

В принципе, я думаю, что так оно и есть на самом деле. Но в данном случае это выводится не из реальности, но из методологической схемы -- если мы удерживаем индивидуализм субъекта с одной стороны, и глобалитет с другой, то в таком случае мы должны понять каждый из глобалитетов как фигуру обозначения вопроса о смерти.
Глобалитеты образуют нарратив истории, и войти в историю значит до некоторой степени преодолеть смерть. Но это вхождение проблематично для любого художника. Сколько бы ни вело следов к твоей могиле, всегда есть некоторый риск, что в историю ты все-таки не попадешь. Эту проблематичность попадания нужно сделать той отправной точкой, откуда и следует рассматривать любой художественный акт.
Тогда диалог между мастером и любым глобалитетом оказывается его диалогом со смертью. Это такая тема, которая, так или иначе, занимает многих -- поэтому здесь легко найти общий язык. Смерть в рамках экзистенциальной перспективы размышлений есть центральный вызов бытия. При условии неповторимости индивидуального опыта ответов существует единство вызова, на который они даются.
Метод анализа экзистенциальных стратегий – это попытка выстроить картину архитектурного творчества как ответов на вызов смерти. В принципе (за пределами собственно архитектурной проблематики) такие ответы неисчислимо разнообразны. Но вопрос о смерти настолько тяжел, что культура стремится подсказать некие типовые ходы его разрешения. Это своего рода "основания для рефлексии" -- сценарии, по которым тебе предлагают идти для того, чтобы не было так тяжело. Ты волен, конечно, не принимать их, но многие принимают. Эти дороги можно назвать типовыми экзистенциальными стратегиями.
Архитектура -- очень абстрактное искусство, которое волей-неволей фиксирует эти общие решения. Переводя переживание смерти в абстрактные пространственные образы, она может работать с предельно общей картинкой -- есть "мир этот", в котором мы живем, есть "тот", в котором мы умерли. В европейской традиции мир иной в рамках архитектурно-пространственных представлений всегда совпадает с миром неких высших сущностей, что является забавной архитектурной редукцией довольно разнообразных философских идей на этот счет.
То есть базовая ситуация задается всего одной пространственной оппозицией -- этот и тот свет. В ней разыгрываются немногочисленные экзистенциальные стратегии. Во-первых, это стратегия остановки времени. Архитектура противостоит протеканию времени и уничтожает его последствия, время в таком случае либо стоит на месте, либо даже движется вспять, соответственно перспектива смерти не то, чтобы уничтожается, но оказывается некоей недостижимой константой. В каком-то смысле, мы получаем вечное наслаждение на краю бездны -- бездна присутствует, но найден способ туда не падать.
Во-вторых, это стратегия переселения в иной мир. Попадая за границу смерти -- в иной мир -- до события смерти, человек уничтожает сам статус смерти как границы. Это стремление умереть до смерти, чтобы после нее ничего не изменилось. В каком-то смысле мы получаем вечное наслаждение полетом в бездне еще до того, как мы туда упали.
Методов реализации этих стратегий в истории бесконечное множество, постольку, поскольку бесконечно много вариантов представлений мира этого и мира иного. Помимо этого, степени радикальности реализации этих стратегий весьма различны -- от тотальных преобразований посюстороннего пространства в потустороннее до ничтожных по размерам "дырочек" в мир иной, через которые можно достаточно часто бегать туда-сюда в целях каждодневной щадящей терапии (именно этот путь выбирает современная культура).
