
Секс и вырождение
Алексей Алексенко продолжает публикацию цикла «Зачем живые любят друг друга» о загадках размножения и других парадоксах современной биологии. В шестой части речь пойдет о топоре
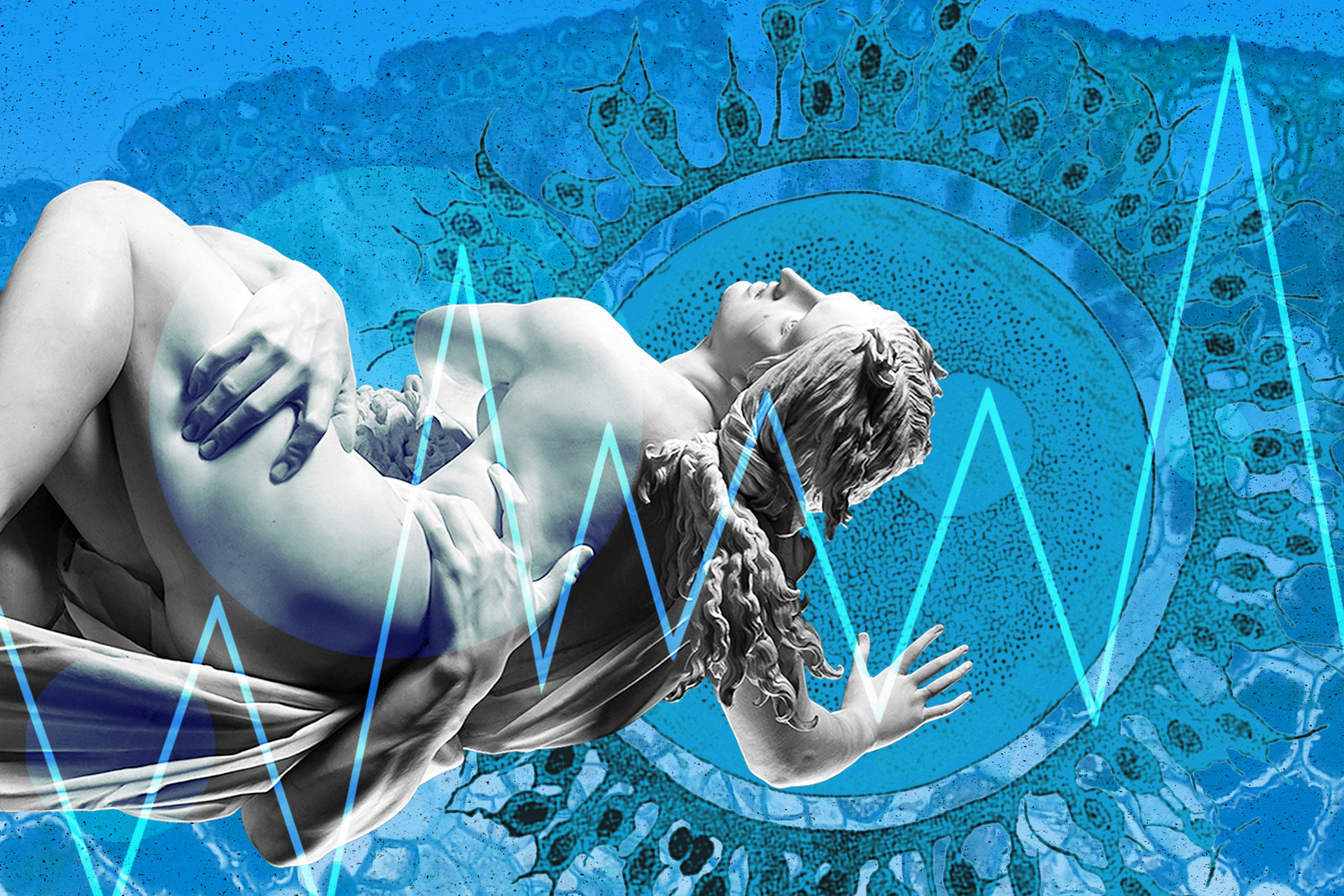
Предыдущую часть читайте здесь: Глава 5. Плесень и секс
Глава шестая, в которой над нами нависает угроза генетического вырождения
Как мы знаем, секс — прекрасная штука, с которой связаны многие другие прекрасные штуки. Пение птиц, цветение цветов, да и вообще все, что вы думаете о себе и о мире в определенный, едва ли не лучший период жизни — это все про секс. Конечно, было бы как-то правильно, если бы и в области наук о жизни секс тоже был связан с самыми фундаментальными вещами. Гипотеза «храповика Мёллера» и то, что половое размножение, возможно, позволяет этот храповик остановить — очень красивая идея в том смысле, что она связывает секс с самым важным в биологии — мутационным процессом, отбором и эволюцией. Как раз таких объяснений мы и искали. Раз уж секс замечен практически у всех высших (эукариотических) организмов, то и причины его существования должны быть универсальными. Остается убедиться, что эта гипотеза верна.
Действительно ли половое размножение способно замедлить накопление зловредных мутаций? Это можно выяснить экспериментально, что ученые неоднократно проделывали. Вот, например, сравнительно недавняя работа, где биологи возились с палочниками (это такие нелепые, похожие на сухую щепку насекомые) рода Timema. Среди этих палочников некоторые виды отказались от секса, — подобно существам, которых мы обсуждали в предыдущей части, — а другие его с успехом практикуют. Взяли по пять видов тех и этих, сравнили их транскриптомы. Что такое «транскриптом»? Это слово не случайно рифмуется с «геномом»: транскриптом включает последовательности всех генов, которые у данного организма работают, то есть с них считывается РНК. В геноме, видимо, есть много ДНК, которая ни на что не влияет, и даже если там случилась мутация, ваши оппоненты сперва потребуют доказать, что от этой мутации хоть что-то зависит. А вот если мутация замечена в транскриптоме, шансов, что она останется совсем уж без последствий, значительно меньше.
Так вот, генетики из Лозанны нашли в транскриптомах палочников убедительные указания, что воздерживаться от секса вредно. У бесполых видов палочников мутаций было значительно больше. Этого, если верить Герману Мёллеру, и следовало ожидать: благодаря рекомбинации, сопровождающей половое размножение, вредные мутации в каждом поколении случайно перемешиваются, так что возникают палочники, почти совсем свободные от них — и, соответственно, палочники, отягощенные мутациями сверх меры. С этой бессмысленной симметрией добра и зла ловко разбирается очищающий отбор: первые палочники живут и размножаются, вторые умирают, а вместе с ними умирают и сонмы их вредных мутаций.
Исследователи увидели и еще одно поучительное следствие отказа от секса: у бесполых палочников наблюдался значительно более низкий полиморфизм. Что такое «полиморфизм»? Это то самое разнообразие, которое мы обсуждали на примере потомков Толстого. Точнее, так называют ситуацию, когда в одном и том же месте генома («локусе», как говорят помешанные на латыни генетики) у разных особей наблюдаются разные буквы-нуклеотиды. Это еще одно следствие полового размножения, о котором мы, с нашей манерой все время забегать вперед, чтобы никто не соскучился, еще не упомянули.
Дело в том, что если гены не перемешивать с помощью рекомбинации, отбор не сможет проверять их каждый по отдельности. Вместо этого он вынужден иметь дело сразу с большим куском генома — например, целой хромосомой. Допустим, в этой хромосоме возникла мутация, не то чтобы слишком ужасная, но лучше бы без нее. К несчастью, на той же самой хромосоме оказалась и другая мутация — весьма полезная. Конечно, отбор поддержит полезную мутацию, и через сколько-то поколений она распространится повсеместно — каждая особь этого вида получит ее в наследство. Увы, вместе с ней она получит и всю ту малосимпатичную мерзость, которая накопилась на этой хромосоме. В результате всякое разнообразие исчезнет: все варианты данной хромосомы, которые гуляли когда-то по популяции, сойдут на нет, кроме единственного — того, где отбор заметил полезную мутацию и просмотрел множество слабовредных. При половом размножении с его рекомбинацией такое было бы невозможно: полезная мутация была бы отделена от шлака и распространялась независимо от всего того груза, который ее окружает. Если этот груз вреден, отбор бы его вычистил, а если он ни рыба ни мясо, — так бы и остался болтаться в популяции с определенной частотой, обогащая ее разнообразие, то есть создавая полиморфизм.
Итак, наблюдения за палочниками и многими другими видами живых существ вроде бы поддерживают идеи Мёллера. За чем же дело стало? А вот за чем: мы пока показали, теоретически и практически, что без секса всем грозит генетическое вырождение, а секс как-то этому мешает. Чего мы не доказали, это что секс не просто «как-то мешает», а действительно способен остановить зловещее пощелкивание пресловутого храповика. К этой задаче генетики подступились только к концу ХХ века, и тут их ждали большие сложности.
Когда Герман Мёллер возился со своими мухами, о скорости накопления мутаций было известно очень мало. Чтобы найти одного мутанта с заданными свойствами — например, мушку с белыми глазами, несущую мутацию в гене white, одном из самых часто упоминаемых генов в научной литературе — надо пересмотреть огромное число мух. То есть вроде бы мутации в отдельном гене довольно редки. Но при этом Мёллер совершенно не понимал, что такое эти самые «гены», и тем более сколько их всего у мухи, и сколько, кстати, у человека. Он, к примеру, «оценивал», что в геноме каждого человека в среднем есть восемь вредных мутаций (человек существо диплоидное, а мутации «рецессивные», то есть их не видно, пока рядом есть аналогичный немутантный ген). Вероятно, у Мёллера были свои резоны так думать, но реальная цифра оказалась в тысячи раз больше.
Примерно до конца ХХ века, пока люди не набили руку в расшифровке геномов, можно было делать самые произвольные предположения о том, как часто возникают спонтанные мутации и какая их доля вредна. Но правда не могла не выйти наружу, и она оказалась крайне неприятной.
Не будем о мухах, давайте о людях. У человека не менее 20 тысяч генов. Сами гены занимают примерно одну сотую часть генома, но если приглядеться к последовательностям, так или иначе важным для функционирования организма, их в геноме гораздо больше. На сегодня самая консервативная оценка составляет 8%. И при этом каждый новорожденный представитель Homo sapiens несет в своем геноме в среднем 70 новых мутаций — в дополнение к тем старым, что он унаследовал от родителей. Получается, что примерно штук пять из этих семидесяти мутаций приходятся на жизненно важные части генома. А значит, они, скорее всего, в какой-то степени вредны.
Возможно, вам хочется снисходительно улыбнуться и сказать: «Ничего, пусть эти мутации отсеет отбор», — но надо понимать, как отбор это делает. У него для этого единственный инструмент: носитель мутации должен умереть (то есть умереть, не оставив потомства — это называется «генетическая смерть»). Одна мутация — одна смерть. Этот лапидарный принцип был даже строго доказан под названием «теорема Холдейна-Мёллера». Согласно этой теореме, последствия для популяции не зависят от того, насколько именно вредной была эта самая мутация. Если она была очень вредна, принцип «одна мутация — одна смерть» сработает немедленно. Если же мутация была терпимой («слабовредной»), она может распространиться у многих особей на протяжении нескольких поколений, так что в ходе ее зачистки отбору придется немного помахать косой там и тут, и в итоге популяция потерпит ровно такой же суммарный урон — та же самая «одна смерть». А значит, если в каждом из нас от рождения возникает пять слабовредных мутаций, ничего с ними сделать отбор не может: у нас просто нет столько жизней, чтобы с ним расплатиться.
Таким образом, если к бесполому размножению перейдем мы с вами, человечество выродится довольно стремительно. Но проблема в том, что даже секс вроде бы не спасет нас от такой печальной участи. По первым прикидкам, с такой лавиной мутаций он справиться не сможет. Мы должны сгинуть под бременем мутаций буквально за считаные поколения. Как, кстати, и плодовая мушка, хоть ее и не так жалко — у них статистика мутаций довольно похожая на человеческую. Однако же и мы, и мушки, существуем уже довольно давно, а значит, где-то в этой истории закралась ошибка.
Ошибку искали многие, и среди прочих этой темой в начале 1980-х годах увлекся Алексей Кондрашов, тогда еще молодой биолог-теоретик из подмосковного Пущина. В Пущино тогда был вычислительный центр. Иногда бывает нелегко установить с читателями взаимопонимание через поколения, но, короче говоря, вычислительный центр — это такое место, где есть компьютер. Значительно менее мощный и быстрый, чем тот, на котором я пишу сейчас эти строки, однако он там был, и именно на нем Алексей Кондрашов начал рассчитывать свои модели. Алексей «запускал» в компьютер выдуманную популяцию организмов и смотрел, как в ней накапливаются мутации, как с ними разбирается отбор и что в этой истории меняет наличие секса.
Повторюсь, что в 1980-х о мутациях у реальных организмов знали не так уж много, так что у Кондрашова была полная свобода наделять свои компьютерные популяции теми или иными свойствами. К примеру, он предположил, что у каждого организма есть хотя бы одна слабовредная мутация (и, как мы видели выше, он с этим угадал). Оказалось, что при таких условиях все же возможно заставить секс работать, то есть успешно противостоять накоплению генетического груза. Для этого нужно сделать всего одно дополнительное предположение: эпистаз.
Генетики обожают трудные слова, такие как «эпистаз», а если еще и ввернуть, что «при эпистазе в первом поколении гибридов наблюдается расщепление 13:3», любой нормальный читатель почувствует тошноту. Но на самом деле генетики просто понтуются, а эпистаз — это всего лишь взаимодействие между разными мутациями. Рассмотрим, например, поговорку «Снявши голову, по волосам не плачут». Генетик может понять ее так, что есть две мутации — отсутствие волос и отсутствие головы, и между ними существует положительный эпистаз. А именно, вредное действие первой мутации полностью устраняется второй. По своей приспособленности две особи — с обеими мутациями или только с одной, безголовой — ничем не отличаются друг от друга, потому что у обеих нет головы — и, естественно, волос на ней. Такой тип эпистаза бывает, если два гена контролируют последовательные стадии какого-нибудь процесса. В данном случае мы предполагаем, что сперва у кого-то вырастает голова, и уже потом на ней — волосы.
Другой вариант эпистаза — отрицательный, или синергический. Он бывает, когда два гена отвечают не за последовательные, а за параллельные пути к результату, то есть хотя бы отчасти дублируют друг друга. В этом случае мутации в каждом из этих генов могут иметь вредный эффект, но когда поражены оба, катастрофические последствия куда серьезнее, чем просто сумма эффектов каждой мутации в отдельности.
И вот Кондрашов предположил, что большинство мутаций у моделируемых им организмов именно таковы. И тогда, согласно результатам его моделирования, секс действительно помогает очистить популяцию от мутаций: объединяя между собой «синергические» мутации, он сразу же повышает их вредный эффект до такого уровня, что отбор способен заметить неладное и избавиться от груза.
О том, что огромное множество биологических механизмов действительно основаны на избыточности и некотором дублировании, биологи сейчас знают довольно точно. О том же, что предложенный когда-то Кондрашовым механизм работает в реальных популяциях людей и мух, он и его сотрудники доложили в 2017-м в журнале Science. За эти 30 лет утекло много воды: Алексей Симонович Кондрашов из пущинского аспиранта стал маститым американским профессором, компьютеры, которыми пользуются его сотрудники, стали совсем другими, а так называемые «мокрые биологи» — те, кто работают не за компьютерами, а за лабораторными столами с пробирками и пипетками — набрали массу информации о мутациях и геномах. В статье авторы показывают, что статистические распределения организмов по числу мутаций как бы «обрублены» сверху, как будто природе очень не нравится, когда мутаций слишком много. Тут уместно вспомнить, что та первая гипотеза о синергическом эпистазе вошла в историю генетики как «топор Кондрашова», и этот топор, как теперь выясняется, действительно помогает отрубить наиболее отягощенную мутациями часть населения, будь то мухи или люди.
В своей статье Кондрашов и его соавторы отвечают на вопрос, который, возможно, у кого-то из читателей уже повис на кончике языка: с лабораторными мухами все понятно, но как этот топор рубит человеческое народонаселение? Где же горы трупов согласно принципу «одна мутация — одна смерть»? Как вообще может работать естественный отбор у венца творения — человека, с его медициной и гуманитарными ценностями?
Авторы указывают на интересную статистику: у современных людей всего 30% зачатий заканчивается родами, а большая часть беременностей вообще проходят незамеченными, обрываясь на самых ранних стадиях. Этот поразительный факт, замеченный в США в конце ХХ века, позволяет более или менее разумно предположить, в какой именно момент работает кондрашовский топор. Конечно, любое действие отбора способно шокировать тонкую и впечатлительную натуру, однако надо признать, что здесь природа избрала наиболее гуманный вариант. Возможно, потому, что менее гуманные пути мы ей перекрыли с помощью своего научного прогресса.
За десятилетия блестящей научной карьеры Алексея Кондрашова в мире произошли большие изменения. Сам он всерьез заинтересовался поисками новых сортов яблонь в российской глубинке — возможно, это знак, что к вопросу о роли секса в генетике популяций лично ему добавить больше нечего. Что касается остальных генетиков, то и среди них наметилась некоторая потеря интереса к этой проблеме. Но значит ли это, что сама проблема в общих чертах решена? Вот как в недавнем интервью Надежде Маркиной для портала PCR News описывает положение вещей сам Кондрашов:
«Это удивительная ситуация — никто ничего не знает на эту тему. Она была достаточно популярной, а сейчас всем как-то поднадоела, эволюцией полового размножения никто не занимается. При этом вопрос так и не разрешен. Думаю, что я могу показать и объяснить, почему все предложенные механизмы преимущества полового размножения не работают. Очевидным образом я где-то не прав, потому что какой-то механизм есть, но какой — я понятия не имею».
Видимо, на этом и нам следует прекратить обсуждение темы секса возвышенным языком популяционной генетики и перейти — в следующих частях повествования — к более приземленным материям.
Продолжение: Глава 7. Секс на природе