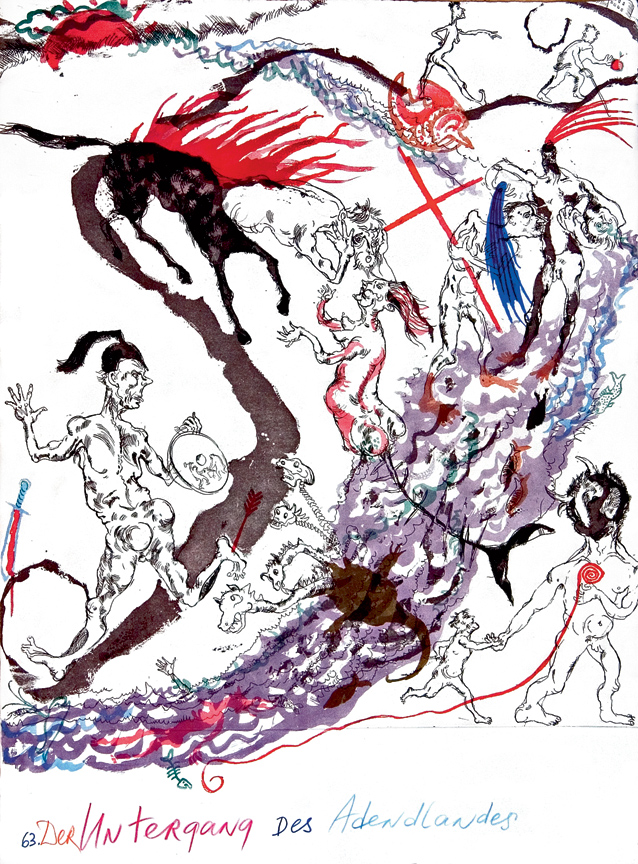Последнее усилие Европы
Роман писался долго и все еще пишется. Он поделен на три части, и повествование ведется в трех не схожих меж собой интонациях. Глава, представленная читателю, написана от имени секретаря Гитлера Эрнста Ханфштангля. Это историческое лицо, и судьба его изложена здесь достоверно. Более того, реальный Ханфштангль действительно написал нечто вроде воспоминаний, правда, весьма коротких. Я расширил, если можно так выразиться, его мемуары. Я долго колебался, сохранить реальное имя или это будет нарушением исторической правды. Однако, в конце концов, я решил имя сохранить, памятуя об известном прецеденте. Так, Александр Дюма-отец использовал мемуары Шарля д’Артаньяна, реального лица, который стал прототипом всем известного мушкетера. Руководствуясь тем же принципом («история – только гвоздь, на который я вешаю свою картину»), я и поступил. Отмечу, правда, что роман писался с оглядкой на реальную историю и даже с намерением осветить некоторые аспекты, на которые редко обращают внимание. Я имел возможность консультироваться у нескольких крупных военных историков, и они оказали неоценимую помощь. В известном смысле данный роман сюжетно связан с предыдущим – «Учебник рисования». А как именно связан, пусть определит сам читатель.
Роман готовится к выходу осенью 2010 года в издательстве «АСТ».
I
Гитлер говорил негромко.
Фраза смотрится неубедительно. История уже написана, а как написана, точно ли, правдиво ли – теперь неважно. Историю пишут победители в назидание слугам. То, что слугам нравилось вчера, они будут оплевывать завтра – потому что так велело новое начальство. Они привыкли видеть Адольфа истериком, выкрикивающим визгливые лозунги. Кто из них знает, чего стоит поднять с колен раздавленную и ограбленную страну, вселять энтузиазм в тех, кто привык к унижению и беде? Да, он иногда кричал – но скажите, кто бы не закричал на его месте? Да, пришло время поражений, и Гитлер закричал еще громче: а как еще было удержать народ от паники, когда фронты рвались, точно ленты серпантина, когда кольцо врагов сжимало Германию, сердце Европы, – и все туже, туже, еще туже?
Тогда, в двадцать третьем, в Мюнхене, он говорил негромко. Речь была спокойной, ироничной. Ирония не оскорбляла, но веселила и легко уничтожала аргументы оппонентов. Чувствовалось, что хладнокровие дается непросто – но он владел собой, управлял клокотавшей в нем энергией. Кто еще умел говорить так? Нет, не только в Германии, но во всей Европе – кто? Полагаю, не найдем ни одного. Иные сравнивают его ораторские приемы с приемами Ленина или Троцкого, иные говорят о Ллойд Джордже. Верно, Адольф многому научился у Ллойд Джорджа, он многое перенял у британцев, и все же его дар истинно германский: слушая Гитлера, я лично всегда вспоминал драмы Шиллера. Если бы я сумел воспроизвести его игру, если бы я мог хотя бы скопировать интонацию! Но, увы, это невозможно. Даже интонации его застольных бесед мне было бы трудно передать, сохранив их значительность и подкупающую простоту. Даже его дежурную фразу, обращенную ко мне: «Ах, милый Ханфштангль, обойдитесь сегодня без ваших штучек», – даже эту простую фразу, умилявшую меня в его устах, я не выносил в исполнении Геринга. Стоило жирному Герману Герингу повторить те же самые слова, копируя интонацию фюрера, как выходила оскорбительная пошлость, и я вскипал. Так неужели возможно воспроизвести длинную речь спустя полвека, если даже одна фраза, будучи повторена спустя полчаса, уже звучит фальшиво?
Рассказывать историю заново трудно, тем не менее следует попытаться. В конце концов, кому как не мне, пресс-секретарю и близкому человеку, рассказать то, что выпало из поля зрения историков или – что вероятнее – нарочно было забыто.
Оговорюсь: я отношусь к воспоминаниям лиц, приближенных к вождям, с презрением. Воспоминания личных парикмахеров, дворецких и дуэний меня всегда смешили. Бедные лакеи – им казалось, что они лучше других поняли своего господина, оттого что знают детали его интимного гардероба. Психологию камердинера, знающего подноготную великого человека, описал еще Гегель, а новейшая история не устает подбрасывать нам примеры подобного тщеславия. Помните мемуары свиноподобного батлера злосчастной принцессы Дианы? Создавалось впечатление, что у бедной принцессы не было человека ближе, нежели уродливый толстяк в ливрее, – только ему поверяла барышня движения своего сердца. А лорд Мортон, личный врач Черчилля? Вот кто поистине выиграл Вторую мировую войну! Послушайте-ка его беседы с сэром Уинстоном – и вы поразитесь компетентности этого главнокомандующего клистирными трубками. «Что нам делать с Балканами, Черчилль?» – «Пока не знаю, Мортон!» – «Вопрос поставлен остро, сэр Уинстон!» Ну не комедия ли?
Полагаю, мои записки совершенно другого рода. Вы спросите, что дает мне право говорить так, принципиально отделяя себя от лейб-медика и батлера? Ответ прост.
Дело в том, что у меня и Адольфа была общая страсть, сблизившая нас еще до известных мюнхенских событий мая двадцать восьмого, до тюремных месяцев в Ландсберге, до триумфального тридцать третьего, до всех тех величественных и злосчастных явлений, что потрясали мир в течение двенадцати лет. Мы стали единомышленниками задолго до возникновения программы национал-социализма, и в куда более интимном смысле, нежели соратники по НСДАП. И верен ему я был иначе, нежели те, что клялись в верности, вскидывая руку в пошлейшем приветствии «Хайль Гитлер!». Надеюсь, Адольф понимал это так же отчетливо, как понимал это я; во всяком случае, наше общение обходилось без вульгарных ритуалов, которые тешили мелкие души его приближенных. Геринг и Гесс, те любили парады, щелканье каблуков, перетянутые ремнями талии гвардейцев, руки, салютующие вождю. Неужели вы думаете, что Адольф, проходивший практически всю свою жизнь в мешковатом пиджаке с длинными, точно у Пьеро, рукавами, – неужели похоже, чтобы он всерьез относился к придворной акробатике? То, что сближало нас, было возвышеннее – и одновременно сокровеннее. Я говорю об искусстве.
Мы были разными людьми, и мой опыт не равнялся опыту Гитлера. Я не был на войне, не видел передовой, он же не знал того, что дает мирная жизнь в богатом доме. Однако наши пристрастия совпадали в главном. Я, англосакс (таковым себя всегда ощущал, а половина моей семьи и поныне проживает в Новой Англии), и немец Адольф оказались охвачены единым порывом – произошло это благодаря искусству, властной силе прекрасного. Гитлер был одаренный художник и подлинный ценитель красоты, а я, хоть и не рисовал сам, всю энергию ранних лет сосредоточил на искусстве. Моя семья в течение многих поколений вела торговлю художественными репродукциями – и владела знаменитым магазином академического искусства в Нью-Йорке. Как один из владельцев магазина я должен был совершать длительные поездки по музеям Европы, выбирая те шедевры, которые мы могли бы воспроизвести и тиражировать для публики. Это совсем не просто – выделить из необъятного мира культуры именно то, что сможет увлечь любого зрителя, что разойдется массовым тиражом.
Страсть к живописи была моей основной страстью, и Гитлер, почитатель Ренессанса, разделял ее со мной. Многие часы провели мы в Мюнхенской пинакотеке, разбирая детали в картине Рембрандта «Мужчина в золотом шлеме» и рассуждая о Микеланджело – подлинном кумире Адольфа. Говорю «рассуждая», поскольку в Мюнхене, к сожалению, нет работ великого флорентинца, и нам приходилось обсуждать не сами работы, но величие планов мастера. Не статуи, не фрески, не купол Святого Петра, но великий социальный проект мастера, его глобальный замысел – воскрешение классики – вот что было темой наших бесед. Проектирование классики. Величественный проект! Думаю, именно тогда, из наших разговоров о Микеланджело, и родился образ города, который Адольф доверил воплотить Шпееру. Нет, даже не так. В этих беседах мы словно выкликали новый талант, создавали образ художника будущего. Шпеер был вылеплен нашей фантазией, создан по образу и подобию наших кумиров, он не мог не прийти.
Гуляя по набережным Дуная, мы строили в воздухе величественные античные дворцы, возводили палладианские виллы. Разумеется, без политики не обходился ни один разговор, но искусство и политика перекрещивались в беседах – и как, скажите, создать проект великого государства, не представив его зримо: с площадями, триумфальными арками, колоннадами?
– Знаете, – сказал однажды Адольф, – чего не хватает нашей культуре? – в обычной манере, он заговорил сразу о главном. – Нам не хватает античных пропорций. Мне как художнику ясно: мы должны учиться у Витрувия, в первую очередь политики. Меня раздражает эта аргументация бакалейщиков, ловящих грошовую выгоду. Они привыкли мерить историю по своим убогим кухням и палисадникам. Согласитесь, что, находясь на площади Капитолия, гражданин ведет себя иначе, нежели во дворе лавки герра Нойманна.
Я рассмеялся.
– Вы ничего не знаете о герре Нойманне! Вы даже не покупаете его сосисок!
Я отлично представляю всю семью. Наверняка Нойманн – это человек с большим животом и висячими усами. В юности был спортсмен, а сейчас тушит капусту. Фрау Нойманн – запуганная женщина, каждый день пересчитывает деньги. У нее красное лицо и маленькие серые глазки. Их дети… Видите эту неразвитую девочку с крысиным хвостиком вместо косы? Ее наверняка зовут Анна-Мария, она мечтает стать певицей. Но не станет, потому что мать поставит ее к прилавку… Моя бедная Германия, бедный ограниченный народ!
– В самом деле, – сказал я тогда, – трудно стать великим человеком, если упираться носом в чан с капустой.
– Представьте, Ханфштангль, – говорил мне Адольф, – что вместо уродливой мещанской постройки с геранью на окнах мы возводим виллу в духе Палладио. Видите? – рукой он очертил контур здания. – Колоннада, портик, стройные пропорции. Не правда ли, это меняет весь пейзаж? Ах, милейший Ханфштангль, понимаете ли, как величественна наша задача? Принося в нашу действительность образец классики, мы задаем такой масштаб, по отношению к которому все детали будут пересмотрены.
II
Сегодня мало кто помнит простой факт: газета Vlkischer Beobachter своим существованием обязана нью-йоркскому магазину «Академическое искусство». Да, это именно так, а – согласитесь – не будь этой газеты, и политический успех партии оказался бы под вопросом. Адольф сетовал, что четырехстраничный листок, выходящий раз в неделю на плохой бумаге, не может привлечь людей и выполнить задачу организатора коллектива. И тогда я продал часть своих акций, сделав возможным ежедневное издание полноценной газеты. Для меня это было естественным шагом: я знал, что именно искусство должно лежать в основании Нового мира. Так и получилось.
Мюнхен тех лет являл собой одновременно и центр политической мысли, и центр искусств. Теперь мы знаем славные имена тех, кто трудился над новым искусством в то самое время, когда Адольф и его соратники трудились над основами Нового порядка. Художники и политики не всегда понимали друг друга – про их разногласия написаны тома, не буду повторяться. Никогда не одобрял кампании, затеянной против так называемого «дегенеративного искусства», – я пытался в свое время показать всю нелепость этой акции Адольфу, но не преуспел: фюрер находился под обаянием Геббельса, человека ловкого, но не глубокого. Для меня было загадкой, отчего Адольф ополчился на экспрессионизм: в самом деле, не было в истории искусств стиля более адекватного его неукротимому духу. В нем самом страсти клокотали именно так, как передают это движениями кисти Кирхнер и Нольде. Как можно не разглядеть в своем соседе союзника только лишь оттого, что он одет в костюм другого цвета и покроя? Непостижимая ирония истории: подозревать в единомышленнике врага, полемизировать с ним и проглядеть реальную опасность. Не говорю даже о том, что северянин Нольде добровольно вступил в нашу партию, но даже те художники, которые не вступили, были крайне близки нам по духу, нервному духу времени. И чем же не угодил Адольфу абстракционизм? Поистине беда всякого движения в том, что мы делаем друзей врагами.
Приведу пример. На мюнхенском собрании, с описания которого я начал, на том знаменитом собрании, где Адольф впервые сформулировал основные пункты возрождения Европы, я видел художника, сидящего в углу зала. Невысокий, аккуратный человек в очках, с лицом скорее невыразительным и блеклым – но в блокноте, где он нервно изрисовывал страницу за страницей, я увидел то, что отнюдь не соответствовало его заурядному облику. Я заглянул ему через плечо (никогда не могу удержаться от того, чтобы не полюбопытствовать, что именно пишет художник на улице, как рисует шарлатан в парке) – заглянул в блокнот, и был ошеломлен. Кандинский – его звали Кандинский, и сегодня это имя широко известно – резкими штрихами изображал непонятные формы и пятна, изогнутые линии, загогулины и кляксы, рвущиеся с листа во внешнее пространство. Я был поражен – лучшей иллюстрации для речи Адольфа никто не смог бы придумать: изображена была та сила, что кипела внутри оратора, – эта же сила искала свое выражение на листе. Порой, когда Адольф подыскивал нужные слова, я почти физически ощущал, что сила внутри него ищет и не находит себе выхода, пытается и не может отлить форму себе по размеру. Впоследствии, в злые годы неудач и потерь, эта сила материализовалась в его публичных истериках, нервной жестикуляции, визгливом тоне. Очевидно, запасы энергии так велики, что проявить себя она может как угодно и где угодно – в том числе в истерике, в том числе в крике. Именно этот сгусток силы и воли силились освоить художники того времени – им подчас не хватало формальных навыков для того, чтобы придать этому сгустку воли предметную форму. Так появилась абстракция из желания выразить невыразимое, очертить то, что противится контуру. Сила искала выхода на холстах наших современников, металась из угла в угол картины – и не находила выхода. Так же, как мы кричали на площадях, кричали холсты Кандинского, и в том наброске, подсмотренном мною через плечо мастера, я увидел главное: внутри нас всех бушевал один и тот же пожар. «Была вначале сила» – к этому выводу приходит гетевский Фауст, и скажите мне, разве, вызывая из небытия силу, он может знать, в каком именно облике та явится? Сила, вызванная доктором Фаустом, находила себе воплощение то в пуделе, то в Мефистофеле, то в инкубе – но суть ее была больше, нежели предъявленная форма, энергия использовала оболочку, но не зависела от нее. Воплощение – вещь для энергии необязательная; рано или поздно энергия порвет оболочку и станет чистым духом свободы. Так не все ли равно, в какой именно форме она нам явлена?
Да, сумей Адольф взглянуть на современников не требовательным глазом римлянина, но мудрым оком древнего грека, отдающего дань стихиям и понимающего относительность порядка, сумей он взглянуть чуть шире – он избежал бы многих бед. Это было самым уязвимым местом Гитлера: он не умел видеть родственную душу в оппоненте; ему казалось, что если ему не поддакивают, то, значит, противоречат. Благодаря своей щепетильной неуживчивости он утратил союз с интеллигенцией, порвал с Британией, рассорился с церковью. Объясните мне, для чего нужно было обострять отношения со страной, по самой природе своей соответствующей взглядам Адольфа? Как можно было утратить общий язык с державой, создавшей привилегированный Итон, родившей социал-дарвинизм Карла Пирсона и подарившей миру историка Карлейля? Разве Карлейль не мечтал о том самом обществе, которое попытался создать Адольф? Скажите мне, для чего было идти в атаку на футуристов и конструктивистов, если они – пусть примитивно, но искренне – пытались облечь идеи Адольфа в понятную массам форму? Что помешало Гитлеру, человеку, одержимому идеей, увидеть ту же идею в ином обличье? Только лишь оттого, что сам он работал в манере скорее классической, он не захотел увидеть, что ровно то же самое выражают иначе, – и вот вам результат: одиночество. Как опытный продавец репродукций я пытался доказать ему, что произведение можно тиражировать, что сила, содержащаяся в произведении, перейдет и в копию, а он не верил. Вот от таких мелочей зависят история народов и судьбы мира.
Недавно на аукционе, устроенном в Лондоне, я имел удовольствие приобрести две работы Адольфа: нервный рисунок, близкий по манере исполнения к Эгону Шиле, и прекрасную акварель, тонкостью колорита напомнившую вещи бельгийца Пермеке. Пожалуй, работам фюрера недостает той решительности, что явлена в любимом им знаке – в свастике. Его рисунки излишне академичны, но сила – подлинная сила! – в них чувствуется. Я с любовью разглядываю эти вещи, дорогие моему сердцу, вспоминаю наши беседы о прекрасном, провожу параллели меж этими работами и теми картинами, что сегодня признаны шедеврами мирового искусства. Должен признаться, на мой взгляд, они выдерживают сравнение: во всяком случае, их питает та же страсть. Я держу в руках эти хрупкие листы и спрашиваю себя: как мог один мастер не разглядеть другого? Что тому виной – вечное тщеславие артиста? Я говорил ему: Адольф, обратите внимание на этих мастеров, вам они кажутся шарлатанами, но поверьте беспристрастному судье – за ними будущее. Гитлер отмахивался, он знать не желал современного искусства; однако, сам того не замечая, работал в том же направлении.
Я вспоминаю Гитлера, набрасывающего проект флага: свесив чуб, склонив голову, он вычерчивал свастику – символ солнца. Я предложил сделать свастику красной: солнце должно сиять. «Нет, мой милый Ханфштангль, – мягко ответил Гитлер, – я вижу ее черной, это даст возможность поместить фигуру на красный фон. И я не знаю ничего, – добавил он, помолчав, – что работало бы сильнее, чем черная геометрическая форма на красном фоне». Черное солнце? Я был озадачен. Он взял красный карандаш и стремительно заштриховал пространство вокруг черной фигуры – признаюсь, я поразился: знак стал выпуклым и словно пришел в движение. «Видите, Ханфштангль, – сказал Адольф, – этот знак есть проект будущей жизни – бесконечного движения». Нужно ли специально оговаривать, что современные Адольфу опыты геометрической абстракции буквально совпадали с его эскизом? В музеях Берлина и Амстердама, в галереях Мюнхена и Цюриха выставлялись вещи, схожие с эмблемой Адольфа как две капли воды или, лучше сказать, как две капли крови. В те годы в Берлине проходили выставки так называемых супрематистов, то есть людей, объявивших себя высшими существами по отношению к прочим. Их эмблемой также стало черное солнце – черный квадрат, помещенный то на красном, то на белом фоне. Их картины ничем не отличались от нарукавных значков, которые носили члены нашей партии, – но, парадоксальным образом, фанатики из НСДАП слушали болвана Геббельса и уничтожали картины супрематистов! Есть ли этому разумное объяснение? Подозреваю, что Гитлер ничего не знал о супрематистах, а узнав, не оценил бы. Сегодня я думаю, что если бы – возможно это или нет, кто знает? – усилия всех новаторов были едины в те далекие годы, мир действительно стал бы иным. Проблема в том, что открытия совершаются одновременно – а кто хочет делиться авторством? До одинаковых вещей слишком многие додумались одновременно – и амбиции помешали признать соседа. Мы сидели в мюнхенском ресторане «Четыре сезона», обсуждая проект свастики, – а далеко в России тот же знак внедряли коммунисты для украшения кавалерийских шлемов так называемых буденновцев. Пусть мои слова прозвучат кощунственно, но сегодня их извиняет время: разве нельзя было договориться?
Иногда мировая война видится мне как конфликт художников. Я сравниваю эстетические воззрения Гитлера и эстетические пристрастия Черчилля – и думаю о том, что драма века была сформулирована уже в их различии. Прилежный историк искусства может написать политическую биографию века, используя лишь свои профессиональные знания, – надо только внимательно смотреть на картины. Не могу не отметить (и не стесняюсь своего злорадства), что на том же аукционе, где я приобрел работы Гитлера, я имел возможность познакомиться с рисовальными опытами Черчилля, дряблыми стариковскими пейзажами, с мыльным цветом и вялой линией. Полагаю, любому несложно продолжить мою фразу и сказать, что художник Черчилль равен Черчиллю-политику. Вступили в конфликт две теории красоты: старая эстетика, которую воплощал Черчилль, не хотела уходить со сцены, боролась с эстетикой новой, а новую представлял Гитлер. Порядок, который воплощало искусство классицизма, пытался отстоять свои права перед лицом нового порядка, воплощенного в искусстве авангарда. Кому-то покажется, что старый порядок победил. Беда в том, что Гитлер представлял новую эстетику не слишком последовательно, ссорился с теми, кто являлся ближайшими союзниками, – метания послужили причиной его политической и военной неудачи. Однако поражение политическое не отменяет другой его победы – победы художника. И это главное.
Говорят: Гитлер проиграл войну. Говорят: сегодня ясно, кто был прав, а кто неправ – и горе побежденному. Но скажите, кто не проиграл в XX веке? Муссолини, триумфатор, повешенный вниз головой? Ленин? Демиург, выброшенный соратниками по партии умирать – безъязыкий, беспомощный, никчемный? Черчилль? Победитель Германии, в бессилии стучащий палкой по дорожке усадьбы, – вот он только что узнал, что Иден потерял Индию, дал ей свободу. Черчилль дрался не за победу над Германией, но за могущество Британской империи, а это могущество как раз и было утрачено – и вот он колотит палкой по земле, жалкий старик, дравшийся с врагом напрасно. Может быть, де Голль? Аристократ, который пришел к Черчиллю с пышной галльской фразой на устах «я здесь, чтобы спасти честь Франции», не мог не знать, что утраченная честь восстановлению не подлежит. Послевоенное развитие событий подтвердило общее правило: генерал при жизни успел увидеть, как собранная его стараниями республика рассыпается в прах. Может быть, Сталин? Тиран умирал парализованным, лежа на полу своей дачи, не в силах ни подать знак, ни пошевелить языком. В свой смертный час немой старик страшным оком озирал подчиненных – членов Политбюро, что, как стервятники, слетелись к его умирающему телу. Что как не поражение переживал этот властный восточный человек, глядя на преемников? Что будет со страной, удержанной им на краю пропасти и поднятой из праха? Смотрел на их перепуганные шкодливые физиономии и знал: предадут, проворонят, растащат, разворуют. И действительно – разворовали.
Так кто же, спрошу вас, кто не проиграл? Кому досталась победа?
Эстетика, которую представлял Черчилль, ушла в небытие – и будущее осталось за пионерами мысли, за авангардом. И разве сегодня победа новой эстетики не очевидна? Может быть, тогда, в ресторане «Четыре сезона», Гитлер, рисуя свастику, изобразил проект бесконечного движения духа, которое мы называем историей?
III
Можно сказать так: черный квадрат изображал солнечное затмение (этот знак большевики трактовали как победу над солнцем), а свастика символизировала восход – возобновление вечного пути и оживление надежды. Собственно, к этому сводилась речь Гитлера: поселить надежду в сердцах сограждан. А оснований для надежды не было.
Гитлер говорил негромко. Он говорил спокойно и по существу. Описал послевоенный мир, его несостоятельность. Он не сказал ничего нового против того, что слушатели знали сами. Каждый понимал: это не настоящий мир. Как можно назвать миром – грабеж, как можно назвать договором – насилие? Никто толком не помнил, из-за чего началась война, но вот то, что мир получился отвратительный, – это видели все. Какие были причины для ссоры – уже никого не интересовало, а президент Вильсон, предложивший свои четырнадцать пунктов урегулирования Европы, тот вообще считал, что Сараево находится в Боснии, а Прага – в Польше. Интересовало всех другое: сколько денег возьмут с Германии, сохранят ли ей производство, что будет с Венгрией, заберут ли французы Рурскую область. Написанные на бумаге, эти слова мало что говорят современному читателю, тогда они значили буквально следующее: будет у нас завтра обед или нет? Не скажу о себе, я всегда был человеком обеспеченным, и мое состояние мало зависело от положения в Европе – но любой из сидящих в зале имел основания спросить себя: и что же мне дал этот мирный договор? Уверенность в завтрашнем дне, гарантию, что меня и моих детей не убьют? Как бы не так. Когда случится продолжение войны? В любой момент – завтра, сегодня. Первый акт трагедии окончен, дали занавес – но пьеса далеко еще не окончена. Полученные от нестабильного мира выгоды иссякнут, и начнется второй акт европейской бойни. И вот сидят люди в зале и знают, что существуют некие причины (а им говорят, что это объективные причины), по которым их в ближайшее время будут убивать. И нехорошо этим людям, странно им и страшно. Может, и не убьют, конечно, но начнется голод, экономический кризис, выгонят с работы. А почему, позвольте спросить, надо нас убивать или лишать работы? Какие такие исторические необходимости появились для того, чтобы сломать нашу судьбу? Кто сказал, что надо так сделать? И люди чувствовали себя участниками драмы, в которой вовсе не собирались участвовать, – словно позвали их в театр, заперли двери, потушили свет и стали убивать.
Люди рады слушать любого, кто посулит помощь. Так больной бегает от врача к врачу, бессмысленно тычется в двери так называемых специалистов. Вот у этого – диплом! А тот – с бакенбардами и в очках, умный, наверное! За пять лет – с восемнадцатого по двадцать третий год – людям наговорили всякого. Их склоняли на свою сторону коммунисты, спартаковцы, монархисты, республиканцы, интервенты и капиталисты. Врали бойко. Во все времена политика есть инструмент выдавливания денег из населения; у населения, правда, почти ничего не осталось, но предлагали поделиться последним. Граждане поверженной Германии уже успели увидеть и Баварскую советскую республику, и Веймарскую, и оккупационные власти, и парламентариев Лиги Наций, самых разных активистов от самых разных партий. И ждали: вот этот, может быть, правду скажет! Те, что были до него, те, конечно, врали – но вот этого депутата давайте послушаем! А говорили депутаты одно и то же: платите! Положение такое, господа, что надо вам заплатить и за это, и за это, и еще вот специальный сбор средств – тоже извольте участвовать. На трибуны выходили новые и новые энтузиасты и вожаки, в рабочих куртках или в приталенных пиджаках – и каждый предлагал толпе откупиться от своей судьбы: отдать немного денег на очередную партию. Спустя полвека точно такие же энтузиасты стали продавать толпе акции и облигации будущих заводов, а в то время прощелыги продавали людям мирное будущее. Налоги, репарации, членские взносы, дотации, подписки – брали много. Жизнь лучше не становилась. Так и врач, который не может поставить диагноз, берет, тем не менее, деньги за визит. Платить было нечем – но все-таки платили. И нет-нет, да приходила в голову толпы (ведь есть же и у толпы какая-то голова) простая мысль: вот у нас в стране существует много партий, партийные функционеры не работают, не сеют, не жнут, они только обещают нам нечто – а смотрите, все они одеты, сыты, живут в хороших условиях. И значит, их кормим мы. Нам себя-то нечем прокормить, а мы, оказывается, кормим несколько партий дармоедов и врунов. Зачем?
В то время когда Гитлер взял слово, слушать ораторов уже устали. Но он сумел говорить так, что его слушали.
Оратор нужен затем, чтобы сказать то, что известно и без него, – но сказать так, чтобы люди стали доверять собственным ощущениям. Гитлер формулировал то, что чувствовал любой, он лишь называл вещи своими именами. Он сказал: перестаньте платить шарлатанам, это не поможет. Вас обокрали, это вы и сами знаете. Хотите, расскажу, кто и как воровал? Оглянитесь, сами увидите, кто разбогател. Не только Германия поражена в правах, поражены в правах многие европейцы. Посмотрите, что стало с Венгрией. Вспомните о резне, устроенной румынами в Трансильвании, – при полном попустительстве так называемых миротворцев. Они же миротворцы – вот договор в Версале подписали, чтобы людей больше не убивать. А почему тогда пустили румынских военных резать и грабить мирное население Трансильвании? Ну почему? Чтобы венгров окончательно запугать? А беженцы? Беженцы, образовавшиеся от передвижения границ, они разве не жертвы мирного договора? Вы знакомы с цифрами? Они сопоставимы с потерями на фронтах. А что творится в Австрии? Разве то, что происходит в Европе, похоже на договор? Договор – это когда стороны договариваются, когда соглашением руководит здравый смысл. Не слушайте пустых фраз, которые будто бы все объясняют. Инфляция, государственный долг, репарации – вас обманывает торжественность терминов, вам кажется, что за этими словами стоят здравый смысл и закон. Нет, не так. Я покажу вам, что эти слова значат.
Инфляция – это когда банкиры печатают слишком много денег. Зачем они обесценивают деньги? Чтобы обесценить промышленность, дать возможность крупным капиталистам ее скупить за миллиарды, которые на деле являются копейками. Потом они стабилизируют валюту – то есть введут новые деньги, и заплаченный миллиард станет единицей. Так именно произошло в нашей стране, вы сами это знаете. Миллиард старых марок стал равен одной рентной марке – это значит, у нас больше нет сбережений, ни у кого. Мы все стали пролетариями, не правда ли? Имущества у нас больше нет, будущее под вопросом. Но разве в мире ликвидировали класс рантье? Просто этими рантье мы уже никогда не будем – а другие будут владеть нашими заводами.
Государственный долг – это выражение звучит так, словно в долгу находятся все граждане государства. Как будто мы все залезли в долги – и теперь виноваты. Вот вы, милейший господин, например, брали у кого-нибудь в долг? Нет? А вы? Тоже нет? Кажется, здесь в зале нет людей, которые кому-то что-то должны. Тогда откуда возник этот грозный государственный долг? Возникает долг оттого, что преступное или слабое правительство занимает деньги у крупного капитала или у соседних держав. И оказывается, что люди должны какому-то конкретному ростовщику, нечистоплотному субъекту – вроде того Ротшильда, который из собственного кармана расплатился за Суэцкий канал. И страна – домохозяйки, школьники, старики – должна возвращать долг. С процентами, заметьте, с процентами! И спросите себя, дорогие сограждане, куда уходят ваши платежи? Заем этот используют исключительно на взятки коррумпированных чиновников, но чаще всего неподъемные для бюджета деньги нужны для ведения войны. В случае неудачи в должниках оказывается вся страна. И тогда политики – продажные, безответственные, коррумпированные подонки! – тогда они говорят: у нас государственный долг! Позвольте, так у кого долг? У государства – или у народа? И откуда этот долг взялся, если ни я, ни вы в долг не брали? И почему мы должны отдавать долги воров и взяточников? И если у народа такое государство, которое не представляет народ, может быть, оно не нужно вовсе?
Репарации – это слово тоже поддается объяснению. Репарациями называется ваше имущество, которое одни бесчестные политики решили отдать другим бесчестным политикам. Политики расплачиваются вашими средствами за свои ошибки. Вас убеждают, что если вы заплатите эти деньги, то вас простят и не будут сильно наказывать. Но разве вы не понимаете, что именно отдавая репарации – вы и совершаете над собой самое злостное наказание? У страны забрали все, что могло кормить вас и ваших детей. У страны забрали промышленность, земли, деньги, а что оставили? Только могилы солдат. Солдаты думали, что гибнут за Родину, но Родина теперь считает, что солдаты виноваты. Солдаты думали, что защищают свое отечество, но сегодня их отечество публично признает свою вину, значит, смерть солдат напрасна. Два миллиона солдат погибли зря. У населения забрали все – потому что народ, как считается сегодня, виноват перед миром. В чем же мы виноваты? Может быть, кто-то из сидящих в зале скажет, в чем его вина?
Не знаете? Но знаете ли вы хотя бы, кому платите эти репарации? Кому отдаете свой хлеб – знаете? Разве рядовые французы стали жить лучше? Разве господа Ллойд Джордж и Клемансо делятся с ними репарациями, которые выплачиваем мы? Или что-нибудь досталось беженцам? В европейской войне нет и не может быть победителей – война велась ради уничтожения славы и силы Европы. Скажите, кто победил? Победил Клемансо, а рабочие как получали гроши, так и получают. В чьих интересах велась война? Крупной интернациональной буржуазии, не так ли? Тех людей, что пресытились европейскими рынками, которые смотрят на Европу как на ступеньку в лестнице своей карьеры. Тех людей, что вывозят капиталы в Северную Америку и Аргентину. Тех, кто скупает земли в Палестине, разве вы сами про это не знаете? Бароны Гирш и Ротшильд – вам говорят что-нибудь эти имена?
Вы полагаете, эти мерзавцы пресытились? Один раз наелись, а больше не попросят? Уверяю вас, господа, аппетит приходит во время еды. Им нравится много есть, они уже привыкли. Новые богачи – посмотрите на них! Поглядите на их особняки, на их прислугу, на их автомобили. Почему они стали богатыми? Разве они производят что-нибудь? Разве они сделали что-либо, кроме того, что украли ваше имущество? Разве они получили свои богатства не ценой ваших жизней, жизней ваших детей? Для них приходят пароходы из Италии, корабли, груженные фруктами, их дети едят апельсины и финики. Разве их дети лучше ваших детей? Разве надо, чтобы именно их потомство жило – а ваше умерло? Разве эти Гирши и Ротшильды, ростовщики, которые наживаются на вашем горе, на позоре нашей Родины, – разве они должны править нами вечно?
Кто вам больше нравится: вор или лжец? Первые отбирают одежду и хлеб, а вторые учат, что без одежды и хлеба жить можно. Война закончилась позорным миром, но революция и лживые марксистские посулы еще позорнее. Интервенция английского и французского капиталов – зло, но худшее зло – гражданская война, которая на руку интервентам. Между двух зол – интервенцией и предательством Родины – мы не нашли иного выхода, как принять так называемую демократическую конституцию, куцую конституцию, сделанную для ростовщиков и капиталистов. Попробуйте воспользоваться своими правами! Мы получили бесхребетную и циничную власть, которая именуется демократией, но не думает об интересах народа ни единой минуты. Говорят, мы обрели права, но право только одно: голосовать за тех, кто крадет наше будущее. Может быть, пришло время нам самим подумать о себе?
Гитлер говорил спокойно, а если возвышал голос, то лишь задавая свои саркастические вопросы. То, что он сказал в тот день, можно было сформулировать короче: мир хуже войны. Говорят, война есть продолжение политики другими средствами. Но мир – это продолжение войны, средствами более циничными, нежели убийство. Смириться с таким миром невозможно – это не Гитлер придумал в тот вечер, он лишь выразил то, что думали все. Однако выход существует, страна не погибла. Понять, что происходит, – значит сделать первый шаг. Дело плохо, но не пропало окончательно: мы понемногу распрямимся и пойдем вперед.
В тот день он обозначил двадцать пять пунктов своей великой программы – и, клянусь, не было человека в зале, чье сердце не трепетало в гордости за Германию. За четыре столетия до него другой великий немец провозгласил девяносто пять тезисов – и перевернул Европу. Слушая в тот день Адольфа Гитлера, каждый из нас (я уверен!) сказал про себя: перед нами новый Лютер, он хочет возрождения угасшего духа, он пришел, он с нами. Сомневаюсь, что Гитлер читал Лютера, – в молодости он был увлечен совсем иным, а затем и времени на чтение не было. Однако достаточно помянуть пресловутый «еврейский вопрос», чтобы увидеть эту связь – волнующее родство духа, перед которым не властно само время. Вспомните знаменитый трактат «О евреях и их лжи» или «Боевую проповедь против турок» – иногда мне кажется, что Mein Kampf написано той же рукой. Впрочем, я всю жизнь страдаю от своего гарвардского образования – у моих собеседников никогда не было потребности в излишних знаниях. Когда я пытаюсь связать явления в истории, они не слушают. Обратите внимание! – говорил я, бывало, Адольфу, указывая на явные совпадения концепций, но он лишь ласково трепал меня по плечу: «опять ваши фокусы, милый Ханфштангль!». Нет, не только отношение к евреям роднило обоих мыслителей, но и желание решить вопрос сегодня и сейчас. Они оба не верили в искусственную систему христианских символов, созданную для управления рабами. Если можешь сотворить чудо – тогда давай, делай, покажи нам его. Изволь, воскреси Лазаря, видишь, он умер. Воскреси – и от этого будет прямая польза. Но что толку обещать, что когда-нибудь несчастный воскреснет. И кто знает, что будет с ним, когда он воскреснет: скорее всего, он снова воскреснет рабом и, как прежде, будет стоять у обочины, провожая глазами лимузины богачей.
Отказ от репараций – ровно то же самое, что отказ от индульгенций.
В сущности, оба проповедника сказали одно и то же: вам предлагают откупиться от ада (читай: поражения, смерти, унижения) индульгенциями, то есть деньгами, заплаченными церкви (читай: репарациями, заплаченными коалиции), но знайте: от судьбы откупиться нельзя. Вас обманули, а ваши деньги украли. Как дословно сказано в девяносто втором тезисе Лютера, «Пусть теперь соберутся все проповедники индульгенций и скажут “Мир, мир!”, но нет никакого мира». Разве не то же самое сказал собранию Адольф? Мира – нет! Версальский договор – не есть мирный договор! Это индульгенция, простая бумажка, и на ней написано, что у нас мир, вот и все. Но разве люди и сами не знали, что откупиться от истории – бессмысленная затея? Вы можете купить индульгенции или облигации – но ни то ни другое не поможет. История ненасытна, особенно потому, что ее воплощают люди с большим аппетитом. История всегда ест, но никогда не бывает сыта.
И Лютер, и Гитлер закончили свои тезисы одинаково. У Лютера это звучит так: «Вы скорее многими скорбями войдете в Царствие Небесное, нежели достигнете покоя благодаря обманчивому миру». Гитлер почти буквально повторил эти слова.
IV
Я записываю сейчас эти фразы, припоминаю, как он их говорил, и думаю: нет, он не лицемерил. Он говорил о Родине и о Новом порядке, и люди оживали, слушая его. Не надо ловить меня на слове – да, я знаю о жертвах! Да, я написал «люди оживали», хотя слишком хорошо знаю про тех людей, что погибли. Я пишу эти страницы много лет спустя, и мне известно про лагеря смерти. Не надо, не надо передергивать мои слова! Я неповинен в жертвах Освенцима, мне неприятна самая мысль о газовых камерах! И неужели вы думаете, что за пятьдесят прошедших лет я не получил полной информации? История пишется победителями, а сорок миллионов погибших словно удостоверяют смертями подлинность обвинительных тезисов. Да, история назвала Гитлера палачом. Пусть так. Но скажите мне, разве ни до, ни после Второй мировой войны люди не гибли?
Кто ответит за те девять миллионов, что были уничтожены на полях Первой мировой? В них-то Гитлер, я полагаю, неповинен? Тогда кто? Ведь если мы определяем Гитлера как виноватого в бойне сороковых годов, то надо найти и виноватого за бойню четырнадцатого. Ведь цифра-то немаленькая, не так ли? Добавьте сюда потери гражданских войн и революций – увидите, цифры сопоставимы с потерями Второй мировой. А если из общей цифры вычесть двадцать миллионов убитых русских (кто там в России разберет, что было причиной их смерти), то мы поймем, почему именно первую войну европейцы считают страшной. Вот и получится, что по вине Гитлера погибло не больше людей, чем по вине уважаемых политиков, которых мы отчего-то не записали в людоеды. Они, прекрасные респектабельные люди, пользуются уважением на родине, им прикалывают ордена, они пишут мемуары. Скажите мне, если по их вине погибли всего девять миллионов – они что, менее виновны? А те несчитанные жертвы, что перебиты колонизаторами в Алжире, Вьетнаме, Корее, Индокитае, Камбодже, Чили, Парагвае, Афганистане, Иране, Ираке, Индонезии, Анголе, Конго, Руанде, – их кто посчитает? Мы все ученики политики Дизраэли, это именно он, хитрый лорд Биконсфилд, и был инженером того мира, который породил Гитлера. Именно он, хитрый еврей, самый консервативный из тори, и привил нашим мозгам эту логику – логику исторической правоты. Про афганские и зулусские войны, которые вела Британская империя, кто вспоминает сегодня? Разве что в связи с русской интервенцией. Мне довелось дожить до советской интервенции в Афганистане, я проглядывал английские газеты с улыбкой. Ах, как коротка, как избирательна человеческая память! За сто лет до того, как советские танки вошли в Кабул, правительство королевы Виктории дважды пересекало границы Афганистана – и я ни минуты не сомневаюсь: едва русские выйдут оттуда, как снова туда войдут британские войска. Ах, не рассказывайте мне про жертвы – лучше внимательно почитайте исторические труды. Вы поймете, что цивилизация никогда не бывает сыта.
Думаете, с сорок пятого года по конец века погибло меньше народу, чем за мировую войну? Полагаете, сорока миллионов убитых не наберется? Больше, уверяю вас, много больше – одна Африка даст убедительные показатели, держу пари, хватит одного лишь черного континента. Посчитайте, сколько жизней унес развал Российской империи. Посмотрите на Восток, туда, где железная поступь Новейшего порядка повторяет шаги порядка, некогда именовавшегося Новым. И заметьте – здесь тоже Гитлер ни при чем, не правда ли? И если все так, тогда разрешите спросить: справедливо ли, чтобы в историческом анализе столетия все зло сконцентрировалось в одном человеке? Выродок, аномалия, чудовище – вам, господа, проще так сказать, чем посмотреть в зеркало и увидеть в себе черты сходства с этим монстром. Я, англосакс Ханфштангль, заявляю: Адольф – ваш кузен, он наш родственник, он мне близок, и я не предам его память. Ах, вы не хотите меня слушать, вы показываете мне материалы Нюрнбергского процесса! Не разумнее ли спросить, почему данный человек поступал так и каковы были причины?
Впрочем, не следует обольщаться: едва ли найдется много желающих поддержать любопытство исследователя. Судьба моей рукописи тому пример. Я слишком хорошо знаю, что в своих воспоминаниях тронул запретную тему, заговорил о том, о чем не принято говорить. Нет, никаких пикантных подробностей – этому как раз все были бы рады; всего лишь скучная правда – а правда никому не нужна. Либеральное общество не хочет знать свое прошлое – мы отменили некрасивое прошлое, вместо него используем удобную легенду.
На военной базе в Штатах, куда я был доставлен по личному распоряжению Рузвельта в сорок четвертом, у меня было довольно времени, чтобы вспомнить все, чему я был свидетелем, и все записать. Меня удостоили звания военного советника, в то время победители использовали офицеров противника для построения новых бастионов в предполагаемой войне с коммунистами. Генерал Гален, чья сеть тайных агентов пригодилась Даллесу, тому отличный пример. Я почти не удивился, когда мне предложили взяться за перо и написать мемуары – кто еще может рассказать то, что знаю я? Прекрасная библиотека была в моем распоряжении, предупредительные тюремщики доставляли газеты и документы, которые я запрашивал. Пусть Ханфштангль, этот странный англосакс, служивший германскому дьяволу, пусть он напишет свои записки! Наивные победители полагали, что я обладаю секретной информацией, которую они смогут вычитать в моем опусе. Мой персональный надзиратель, одетый в форму лейтенанта флота (но, полагаю, пребывавший в чине майора разведки), ежедневно просматривал мои записки – и морщился: как, опять про Леонардо? снова про античную демократию? еще раз о прозрениях Гегеля? Где же подробности о секретных хранилищах произведений искусства в Линце? Где сведения о личных счетах фюрера? Вы уверены, что вам больше нечего вспомнить, мистер Ханфштангль? Мы ждем от вас правдивой истории, мистер Ханфштангль, а вы нам рассказываете сказки о Лютере и Меланхтоне! Терпение, милый лейтенант, улыбался я, терпение! Что сокровища Линца! Что швейцарские аккредитивы, аргентинские тайники, подводные клады! Все золото мира будет перед вами, все рубины и изумруды Голконды рассыплю я у ваших ног! И лейтенант (он же майор) терпеливо ждал обещанного, не понимая, что сокровища уже перед ним. Он ждал паролей, карт, ключей – я же предлагал ему тайны мира. Читайте внимательнее, господа! Ах, немногие умеют пользоваться моими подсказками – вот, например, Адольф умел. И то – ненадолго хватило его умения.
Сегодня мой труд закончен, цензура ознакомилась с ним и не нашла ничего любопытного. Мне разрешили искать издателя. Теперь я стал вольным человеком – прожив без малого век, я обрел свободу.
…Я удивляюсь современному прогрессивному миру: многое из намеченного злодеем Гитлером воплотили в жизнь его прямые противники – но отчего же они стесняются признать свои достижения? Поступки Адольфа мир осудил, свершения его противников мир принял как благо – однако путаница в оценках рождает вялость и бесплодное брожение умов. Посмотрите: от мелочей до главного – западная цивилизация усвоила уроки Гитлера, но стесняется сама себя.
Гитлер раздробил Чехословакию, создав независимую Словакию, именно это и повторил сегодня либеральный мир – но до чего же непоследовательно и застенчиво вел он эту политику. Вооружить Украину против России – вот блистательный план фюрера, так не прячьтесь за жалкое фразерство, смелее делайте то, что делаете! Так и Спаситель говорил, если я не путаю текста: то, что делаешь, делай скорее! Гитлер вооружил албанцев, создав Косовский легион СС, который проявил себя исключительно в расстрелах сербского населения, но именно это и произошло сегодня вновь по мановению демократической руки. Так зачем же эти бессмысленные конгрессы либералов, прячущие факты под ворохом петиций? Гитлер объявил нордическую расу господствующей – и сегодня мы наблюдаем, как стараниями англосаксов это господство стало реальностью. Так будьте же достойны своей миссии, господа!
Смешно: когда я рассказываю о жертвах и цене, заплаченной за господство, меня подозревают в осуждении новой империи. Но я не осуждаю, напротив! Я лишь стремлюсь к тому, чтобы убрать из сознания победителей ложный стыд. Подлинные творцы истории не должны юлить. Я рассказываю о фактах, чтобы дать урок исторического мужества – имейте смелость нести факел истории, господа!
Вы клянетесь именем демократии! Отлично, так не кривляйтесь на кафедрах, не унижайтесь до кустарных политтехнологий и подтасовок на выборах во Флориде и Москве! Не подкупайте избирателей, не давайте взятки депутатам! Будьте достойны своих предшественников, которые шли по снежным полям и взбирались на крутые вершины! Если вы стали наследниками великой истории, будьте достойны памяти того человека, которого действительно привел к власти сам народ. Будьте достойны мирового беспокойного духа, который он воплощал и который достался вам по наследству!
Я видел много стран, много политиков, прожил долгую жизнь. Сегодня старик подводит итоги, мне нет нужды лицемерить. Я спрашиваю: отчего решили обвинить в бедах века одного человека?
Раньше мне казалось: так делают, чтобы удобнее спрятать преступления остальных. Именно так поступают хитрые следователи, когда заставляют убийцу взять на себя помимо одного убийства еще десяток – чтобы сразу закрыть десяток дел. Политики выписывают индульгенции, которые приобретает для себя историческая наука. В наше коррумпированное время, когда за взятку можно решить любой политический вопрос, влиятельные люди теми же методами решили исторические вопросы.
Теперь я вижу, что ошибался. Проблема в ином: современные правители не готовы к своей великой миссии. Им, либеральным воришкам, еще предстоит дорасти до размеров мундира, который они на себя надели. Да, славные дни Европы закончены, новые варвары строят новую империю – пусть! Я говорю им: смелее! Они взяли из шкафа истории наш старый мундир с орденами – но мундир велик, хилое тельце современной демократии теряется в его складках. Я пишу для того, чтобы помочь им найти себя. Будьте достойны своего предназначения, господа!
V
Меня спросят: как можешь ты, англосакс, знать, что чувствовали немцы в те годы, какое у тебя основание судить? Я, Эрнст Ханфштангль, наполовину англичанин и наполовину немец, родился в Ганновере, прожил часть жизни в Нью-Йорке, вернулся в Европу как раз в те годы, когда судьба Европы вошла в свою драматичную фазу. Кем я себя ощущаю – немцем или англичанином? Образование получал в Гарварде, докторат готовил в Оксфорде, стажировался в Виттенберге, искусство изучал по всей Европе – так кто же я? Скажу так: я принадлежу к нордической расе, о которой пылко (и порой пристрастно) говорил Адольф Гитлер. Когда партийные фанатики упрекали меня в родстве с врагом, я отвечал им: разве Англия не связана с Германией теснейшим образом? Да, я родился в Ганновере, но и династия английских королей до того, как именоваться Виндзорской, носила имя Ганноверской. Происхождение давало мне право на особый взгляд на ситуацию – я мог видеть все стороны конфликта и часто видел яснее, чем другие. Я хотел бы ответить на вопрос о происхождении так: я чувствую себя гражданином великой Европы. Сегодня такой ответ прозвучит смешно, великой Европы больше не существует, но возможность ее остается! Я – человек Запада, и воспринимаю Запад как единый организм, сложный организм, но цельный. В периоды кризиса ради спасения всего организма приходится жертвовать одной из его частей – но все они равно дороги. Мне, носителю западной цивилизации par excellence, ни одна культура не чужда, я не противопоставляю романский дух тевтонскому, я принимаю их все.
Когда я впервые услышал Гитлера, я подумал одно: вот человек, который вернет Западу славу, спасет от беды раздробленности, подарит мощь, достойную наследников Великого Карла. Я решил отдать ему свои силы и свой опыт – в уверенности, что лучшего применения им я не найду.
В тот вечер я слушал пылкую речь Адольфа и против воли улыбался. Улыбался я потому, что буквально за день до памятного собрания Гитлер высказывал совершенно противоположные аргументы, и с не меньшей страстью. Это свойственно великим политикам: в зависимости от ситуации они могут рассмотреть вопрос с двух абсолютно полярных точек зрения. Я опишу эту сцену подробно, чтобы точнее очертить характер Гитлера, а также потому, что это был типичный для тех лет разговор.
Я привел Гитлера в семейство Виттроков, зажиточных буржуа, приехавших в Баварию с востока, из Пруссии. Фамилия ничем не примечательная, отец семейства держал магазин антикварной мебели. Однако Виттроки находились в родстве с героем войны – фон Бюловым, это родство становилось теснее день ото дня, а дистанция от Мюнхена до Берлина делала невозможным что-либо проверить. Во всяком случае, договорились считать семью Виттроков побочной ветвью фон Бюловых, и спекулянт красным деревом вошел в число значительных людей города, посещал оперу и давал обеды. Составляя программу встреч, я отметил для себя и это семейство.
– Для чего видеться с ними, Ханфштангль? – спросил Гитлер.
– Все-таки славная фамилия, – ответил я, – фон Бюловы составляют славу Германии.
– Какая чушь! Бюлов – посредственный военный, – заметил Адольф. – Воевал бездарно, бесславно ушел в отставку, можно лишь сожалеть, что его не отстранили от командования раньше.
– Но его предок…
– Вы имеете в виду того Бюлова, что был с Блюхером под Ватерлоо? Обратите внимание, какая печальная регрессия: великий фон Бюлов сражается против Наполеона и побеждает, его потомок – воплощенная посредственность, проигрывает сражение за сражением, пока его не отправляют в отставку. Побочные родственники нынешнего генерала спекулируют красным деревом и поливают герань. А их потомки будут продавать сосиски на перекрестках. Вот история Европы в сжатом виде.
– От вас, Адольф, зависит судьба семейства, – сказал я. – В вашей власти сделать так, чтобы последний в роду не торговал сосисками.
Гитлер посмотрел на меня; вспыхнули и погасли его голубые глаза.
В те дни я взял на себя труд представить Гитлера обществу, расширить круг его знакомств. Показать затворнику мир – это было увлекательной задачей. Я водил его в пивные погребки, описанные немецкими романтиками, сидел с ним в компании вольнолюбивых буршей, приглашал его в гостиные благородных семейств – словом, я вел себя совсем как тот персонаж известной немецкой пьесы, что взялся показать жизнь кабинетному ученому. Лишь в одном я не преуспел: не смог найти ему подругу, Гитлер остался одинок. В остальном он оказался благодарным туристом – умел получить пользу от любого знакомства.
Я преследовал сразу три цели. Прежде всего хотел показать немцам, что дух нации не сломлен, впустить в их сонную гостиную этого искусителя свободой. Одновременно я хотел снабдить Гитлера опытом, какого он – не принадлежащий по рождению ни к богатым, ни к аристократическим семьям – был лишен. И, наконец, мне было любопытно, как они будут говорить друг с другом: мятежный дух народа и усталый от жизни обыватель. Наливать молодое вино в меха ветхие – многие этот метод отвергают; но что делать, если нет других мехов? Я с усердием коллекционировал приглашения, и почти каждый вечер мы отправлялись с визитами.
В черном плаще и черной широкополой шляпе, придававшей ему сходство с итальянским трагиком, Гитлер входил в богатые дома – и не производил убедительного впечатления. Он выглядел комично. Он не знал, куда девать руки, как обращаться с прислугой. Пока он молчал и осматривался, богачи осматривали его – и потешались над его провинциальностью. Что за чучело привел к нам г-н Ханфштангль? Право, потешный субъект! Лишь упорный взгляд твердых голубых глаз Гитлера заставлял изменить первоначальное мнение. Раз встретившись с ним глазами, хозяева уже иначе оценивали его, им уже не было смешно. К нему начинали приглядываться: если не с уважением, то с осторожностью. Но стоило ему начать говорить, и он немедленно делался центром собрания, завораживал общество. Мужчины становились серьезны, одергивали пиджаки, дамы поправляли прически и пудрили нос. В особенности же под властью его обаяния оказывались дети.
Умение нравиться детям было отличительной чертой Гитлера. Этим свойством, как говорят, обладали многие властители мира: и Сталин, и Рузвельт обожали малышей. Стоило Гитлеру задорно подмигнуть ребенку, как детская душа отдавалась ему целиком. Мой сынишка Эгон много лет вспоминал, как Гитлер изображал льва и потешно рычал. Но моему сынишке было всего шесть лет, и, разумеется, он не принимал участия в наших беседах. Но что касается подростков – те слушали затаив дыхание и приходили в неистовство. Сын Виттроков, шестнадцатилетний Йорг, не стал исключением – он смотрел на Адольфа так, как, вероятно, смотрели древние греки на оракулов.
Как я уже сказал, Виттроки находились в родстве с генералом фон Бюловым. Подозреваю, что, пока генерал был жив, родство не было так очевидно, однако теперь сомневаться в нем не приходилось. В гостиной висели дагерротипы генерала в походном шлеме, а также фотография похорон генерала, прошедших в Берлине несколько лет назад. Следует отметить, что на фотографии все семейство Виттроков было запечатлено в непосредственной близости к усопшему и с весьма скорбными лицами. Впрочем, как заметил Виттрок-старший, потеря эта прежде всего ужасна для Германии, а страдания семьи – вещь сугубо естественная. Да, нам не вернуть деда и дядю, сказал он, но гораздо трагичнее то, что Германия потеряла свою славную саблю. Он так и сказал: «саблю», словно фон Бюлов был кавалеристом, тогда как даже я знал, что Бюлов командовал пехотой, но к победе свою пехоту не привел. Возможно, Виттрок-старший употребил слово «сабля» в некоем символическом смысле, говорим же мы о писателе «перо», хотя вполне вероятно, что он диктует свои сочинения секретарю. Виттрок сообщил также, что славная сабля полководца хранится в их семье. Из вежливости я спросил: как, неужели?
– Та самая, что была с ним в деле под Аррасом, – сказал спекулянт красным деревом и значительно кашлянул.
– Ах, вот как? Под Аррасом? – сказал я, и Виттрок скорбно склонил голову, отдавая дань павшим под Аррасом героям.
Знаменитый родственник давал право говорить о боях на Марне, обсуждать стратегию войны в Бельгии, давать пояснения к переменам на карте. В частности, было замечено, что географическое положение Германии весьма уязвимо, плохо приспособлено для ведения войны. Подобно многим штатским, рассуждающим о дислокации войск, Виттрок проявил избирательную осведомленность, показал энтузиазм в анализе деталей. В частности, его стратегическое воображение волновали Эльзас и Лотарингия. Поскольку именно фон Бюлов оборонял Эльзас и Лотарингию, эта территория находилась как бы под семейной опекой. Виттрок говорил об утраченных землях, как говорил бы об упущенном на рынке секретере – совсем было сторговал вещицу, да вот сорвалось! Вот и о судьбе Лотарингии он пожалел. Как известно, оборона Бюлова была прорвана, и родня генерала сокрушалась. К тому же это ухудшает общее положение Германии. И прежде, считал Виттрок, было нелегко воевать сразу на всех фронтах, не имея тылов, а каково теперь – лишившись Эльзаса и Лотарингии? Отныне мы совершенно окружены. Замечание это было сделано глубокомысленным тоном, и глава семейства, критически взвесив возможности войны без ресурсов Эльзаса, покачал головой.
– Я считаю, что временная потеря Эльзаса и Лотарингии – большое преимущество, – сказал Гитлер, и семейство Виттроков изумилось.
– Позвольте, герр Гитлер!
– Эльзас и Лотарингия в стратегическом отношении – обуза. Тот, кто владеет ими, теряет мобильность. Французы забрали их себе – превосходно! Они вынуждены держать неоправданно большой контингент войск там, где от них нет никакого проку. Тем самым основные позиции ослаблены.
Йорг Виттрок смотрел на Адольфа не отводя глаз.
– Начальник вашего дедушки, – Гитлер произнес слово «дедушка» вместо слова «генерал», – командующий армией фон Мольтке сказал: «Невозможно завершить эту войну быстро, потому что это не война армий, но война народов». Досадно, что мы потерпели поражение, но дело не кончено. Как считаете, – спросил Адольф, – если война с коалицией возобновится, мы вернем Эльзас?
Любопытно, что подобные разговоры всегда выходят на Эльзас и Лотарингию, как бы ни были невежественны наши сограждане, именно об этих спорных территориях они наслышаны. Сегодняшние собеседники даже не представляли, что их спор начался еще в IX веке, при разделе империи Великого Карла. Некогда великая империя Запада распалась на Францию, Германию и Италию – деля земли отца, Лотарь не мог договориться с Людовиком по поводу несчастной Лотарингии. Я глядел на Гитлера и невольно думал: неужели передо мной человек, который положит спору конец? Неужели я вижу нового Карла?
Йорг Виттрок привстал со стула и сказал:
– Разумеется, герр Гитлер!
– В деле под Аррасом, – сказал отец юноши, который так просто не хотел уступить влияние на сына, – в деле под Аррасом, – он назидательно поднял палец и приготовился описать подвиги родственника, но Гитлер перебил его.
– Я был под Аррасом, – просто сказал Гитлер.
Действительно, именно под Аррасом он был ранен в ногу и получил Железный крест первой степени за храбрость. У него было два креста, но постоянно он носил лишь этот – в память о том бое. Виттроки заметили крест, спросили о его происхождении. Я ответил вместо Гитлера. Я видел, какое впечатление производит рассказ на юношу.
– Произвели впечатление на мальчика, – сказал Виттрок-старший. – Впрочем, увлечения в таком возрасте меняются быстро. Вчера его героем был Чемберлен – знаете этого англичанина?
– Какой Чемберлен? – поинтересовался я. – Политик Невилл – или мыслитель Хьюстон Стюарт Чемберлен?
– Надеюсь, – заметил Гитлер, – молодой человек не тратит время на болтуна-политика. Время такой политики кончилось. Читайте Хьюстона Чемберлена. Почитайте, что он пишет о евреях. Проблема обозначена точно.
– Не могу с вами не согласиться! – Виттрок-отец отреагировал крайне живо, привстал даже, предлагая гостю мозельское вино. – Евреи – вот кто получил прямую выгоду от германской разрухи! Посмотрите на то, как евреи ведут торговлю! Я занимаюсь своим делом уже двадцать лет, имею свой круг клиентов – и что же? Половина покупателей уже переметнулась к этим ростовщикам! Знаете эту еврейскую стратегию – сначала снижают цены, а потом, забрав себе клиента, продают не один предмет, а три! Думаете, они предлагают качественный товар? Как бы не так! Вот, полюбуйтесь на этот секретер – баварская работа, XVII век, резной дуб с инкрустациями! Я мог бы просить за эту вещь… Но качество уже никого не интересует! Право, даже обидно рассказывать, в каком положении я оказался благодаря этим торгашам.
Гитлер отвернулся, он был равнодушен к мебели. Виттрок чуть было не налил ему вина, однако, воспользовавшись тем, что гость смотрит в другую сторону, убрал бутылку.
– Мозельское, герр Гитлер? Не желаете? А что происходит в Берлине? Самые богатые магазины – кому принадлежат самые богатые магазины? Разве не знаете? Роскошные улицы Шарлоттенбурга – и кругом одни евреи. Считается, евреи ведут дела лучше других.
Гитлер заметил, что немцам следовало бы перенять английскую уверенность в своем величии. Англичане без колебаний выслали евреев из страны еще в XII веке – и еврейской проблемы не знают. А Дизраэли, хотел спросить я, но удержался: в конце концов, разве Дизраэли еврей? Достигнув могущества, лорд Биконсфилд стал стопроцентным британцем, его иудейство было преодолено тягой к власти. Впрочем, в любом случае перечить Адольфу в споре было напрасным трудом, он не принимал чужих аргументов. Слишком концентрированной была его мысль, слишком ясно он видел цель, чтобы отвлекаться на неудобные подробности. Гитлер добавил, что от самих немцев зависит, будут ли евреи первенствовать в торговле. Больше гордости, чувства собственного достоинства. Тогда сможем говорить о стране без стыда. Тогда можно и Эльзас с Лотарингией вернуть. Надо только захотеть.
– Ваш сын, – заключил свою речь Гитлер, – должен уже сегодня решить, в какой Германии хочет жить.
– Наш сынок, – сказал Виттрок-старший, – сам не знает, чего хочет. Увлечения меняются быстро. Вчера героем был Чемберлен, сегодня – мюнхенская школа искусств, русские иммигранты-художники, и каждый день новый кумир. Сегодня его герой, несомненно, вы. Но не думаю, что наш сын завтра вернется к мысли о Лотарингии. Завтра будет что-нибудь новенькое, – и герр Виттрок засмеялся. Щеки его тряслись.
– Мой сын хочет подвига, – негромко сказала фрау Виттрок.
Это была едва ли не первая фраза, произнесенная ею за вечер, – до того она отдавала распоряжения горничной, но негромко, слов разобрать было нельзя. Теперь же она сказала свою реплику отчетливо, и все в комнате посмотрели на нее. Герой пьесы тщательно готовит свой выход, чтобы первой же репликой дать понять, кто на сцене главный. Она обвела взглядом четверых мужчин, сидящих в гостиной, – так маршал оглядывает строй солдат, высматривая дефекты выправки. Стало понятно, кто в этой семье фон Бюлов.
Я поразился своей недогадливости. Ну конечно же, торговец антикварной мебелью женился на красавице из генеральской семьи – история нередкая. Она презирает мужа, подумал я. Она презирает мужа, мюнхенские дома с фахверками, пивные застолья и свиные ножки. Она ненавидит шляпы с перышками, салфетки с монограммами свекрови, букетики сухих цветов, миртовые веночки над дверью, всю эту сладкую баварскую пошлость. Она любит только сына: ее гордость, униженная неравным браком, питается этим долговязым мальчиком с оттопыренными ушами.
Я посмотрел на фрау Виттрок внимательно, она ответила мне пристальным взглядом. Небольшого роста, с прямой спиной и высокой грудью, с тугими завитками черных волос подле аккуратных маленьких ушей, с полными губами, которые она сжимала в жестокую гримасу, когда ее муж произносил пассажи о фронтовых приключениях тестя. Как же я не понял этого сразу: энтузиазм мальчишки был унаследован по женской линии, да, разумеется! Я присмотрелся к юноше, прикинул возраст его матери: пожалуй, лет тридцать пять. Как можно было не оценить эту женщину мгновенно! Я улыбнулся ей и сказал:
– Разумеется, мужчина ищет подвига.
Она улыбнулась в ответ – и я увидел сразу все, что последует за этой улыбкой. Увидел наши встречи в гостиницах, увидел ее снимающей чулки, увидел смятые простыни, кольца и серьги на ночном столике. Прелесть отношений с замужней женщиной – с такой твердой и сильной женщиной – заключается в том, что не придется тратить время и деньги на ухаживание. Она хочет наслаждения – это понятно. Кривляться и кокетничать не станет.
– Собственно, герои, которыми увлекается ваш сын, – сказал я ее мужу, – имеют много общего. Я не вижу противоречий в пристрастиях молодого человека. Ему нравятся страстные натуры. Это так понятно. Интересуетесь искусством? – спросил я у молодого человека.
– В Мюнхене есть значительные мастера, – ответил он.
– Есть кое-что и в Швейцарии, – заметил я. Люблю говорить с молодыми людьми: по натуре я воспитатель.
– «Да-да», не правда ли? Сюрреалисты?
– И в Англии есть любопытные образцы, – я чувствовал, что мне попался благодарный слушатель, он ловил каждое слово, – со времен Блейка в этом народе тяга к грандиозным мистериям. Уильям Блейк, – повторил я, обращаясь не только к нему, но ко всем в гостиной, – вот мастер, которому наш век обязан своими идеями.
– Я люблю мистерии, – сказала фрау Виттрок.
Каждую реплику она преподносила торжественно, слушатели невольно задумывались над ее словами. Это очень важно, что она любит мистерии, это меняет многое. Разговор на мгновение замер, муж растерянно оглянулся на жену, фрау Виттрок высокомерно подняла бровь, потом обратила взгляд ко мне.
– Я люблю мистерии, – повторила она и благосклонно мне кивнула.
Я смотрел на ее полную грудь и представлял, как будет выглядеть эта грудь, если расстегнуть платье. Позже, когда я увидел фрау Виттрок обнаженной, мои представления полностью подтвердились: грудь была полная, высокая, с большими темными сосками. Должен сознаться: несмотря на любовь к героической античности и флорентийской изысканности, в отношении женских грудей мои вкусы скорее барочные. Я не поклонник грудей а-ля «Ночь» Микеланджело – то есть грудей, торчащих в разные стороны наподобие бортовых орудий фрегата. Меня привлекает рубенсовский вариант. При том что я осуждаю излишнюю слащавость его образов, именно в этом пункте я с Рубенсом солидарен. Да, полные, плотно прижатые друг к другу высокие груди – вот то, что делает женщину поистине привлекательной.
– Нам есть чему поучиться у англичан, – снова сказал Гитлер, – не правда ли, Ханфштангль? Но только не живописи! – как обычно, Гитлер отмел в сторону то, чего не знал, отмел – не разбирая, пригодится ему новое знание или нет. – Искусству у англичан учиться бесполезно. Италия – вот образец в искусстве, не так ли? У англичан нам следует перенять их патриотизм, их спортивный характер. Но у русских? Чему же учиться у русских? – улыбка скользнула под его усами. – Разве русские умеют рисовать?
– Именно это я и твержу своему сыну!
– Они вообще-то немцы, – защитил своих кумиров юноша. – Приехали из России, но сами этнические немцы. Кандинский, фон Веревкина, Явленский. Вернулись на родину.
– Фон Веревкина?
– Фон Веревкина, – презрительно повторил отец семейства, – я, как и вы, не слышал о такой немецкой фамилии.
– Забавное имя.
– И картинки дурацкие. Но сын относится к этой мазне серьезно.
– Почему же они уехали из России, – спросил Гитлер, – только теперь? Раньше не вспоминали о своих корнях?
– Ах, вы не знаете, что творится в Москве! Великие художники не нужны марксистам!
– У евреев не может быть ничего великого, – спокойно заметил Адольф. Он культивировал в себе антисемитизм. Если в разговоре можно было вставить слово о евреях, он непременно это слово произносил. – Поскольку Россией управляют евреи, можно забыть о русском искусстве. Впрочем, оно и не было значительным.
– Ах, дело не в евреях!
– Заблуждаетесь, молодой человек. В еврействе все дело. Если Россия преодолеет еврейство, у страны появится шанс.
– Ах, нет! Рассказывают, что там диктатура и террор коммунистов!
Юноша пересказал нам содержание газеты, которую мы сами издавали, – как это бывает с молодыми людьми, ему казалось, что он знает такое, чего не знает никто. Адольф слушал его, склонив голову.
– Диктатура рабочих! – говорил молодой Йорг Виттрок. – Мы тоже хотим социальной справедливости! Но не такой ценой! – При этих словах отец мальчика изобразил ироническую улыбку, он стеснялся горячности сына. Мать же, напротив, глядела гордо, ноздри ее трепетали, глаза сияли. Вечером отправлю ей письмо, подумал я. Приглашу на чай, скажем, послезавтра в отель «Четыре сезона». В шесть вечера? Вполне удачное время – к одиннадцати она вернется домой. Придет? Несомненно, придет, хотя бы из любопытства.
– Поглядите, герр Гитлер, чем социальная справедливость оборачивается! Им не нужна культура! Гонения на науку, искусство, предпринимательство! Они преследуют любую инициативу!
В Vlkischer Beobachter мы печатали подборку материалов по событиям в Советской России. Публичные судебные процессы в России только начинались в двадцать третьем году. В те месяцы завели дело на ленинградских судебных работников, то был один из первых процессов прокурора Вышинского. Процесс вышел громким: судили судей, предавших свою профессию. Так называемые нэпманы (в России ввели новую экономическую политику и появились новые купцы и предприниматели) попытались купить революционную Фемиду. За крупные взятки судьи закрывали глаза на незаконные махинации. Купцы платили судьям, чтобы и дальше обманывать рабочих. Но долго обманывать государство трудно: арестовали и самих купцов, и тех судей, которые помогали им уклоняться от налогов. Выразительные фамилии обвиняемых (купцы Левинзон, Боришанский, Маркитант; судьи Гольдин и Менакер) газета Vlkischer Beobachter воспроизвела без комментариев, но они и не требовались. Даже в переводе речь Вышинского впечатляла: «Я требую беспощадного наказания, которое очистительной грозой и бурей пронесется над головами преступников. Я требую сурового наказания для пауков и скорпионов. Я требую расстрела всех. Товарищи, благо революции – высший закон, и да свершится удар этого закона».
В тех публикациях мы старались дать читателю обзор сталинских методов: коммунизм был реальной силой, и следовало быть готовым к войне. Юный Виттрок был прилежным читателем, и я порадовался: статья не пропала даром, не зря я искурил пачку сигарет, изображая страдания подсудимых.
Юноша пересказал нам наши же публикации, процитировал расстрельные приговоры, которые я сам представил к печати, – и ждал. Ждал и я. Я наблюдал, какую тактику выберет Адольф: обвинит евреев и защитит большевиков или скажет, что большевики – палачи и губят евреев?
Однако Гитлер выбрал иной метод.
– Вас пугает Сталин? – поинтересовался он.
– Палач!
– Разве государство, карающее преступников, совершает преступление?
– Позвольте, герр Гитлер, государство может наказывать, но не должно использовать тактику преступника! Коммунисты заманили купцов работать в Россию, а теперь их расстреливают! Это лицемерие! В газете я прочитал, что фальшивые налоговые декларации подают все – иначе производство бы стояло! Купцам приходится изворачиваться! Если отдавать прибыль государству, невозможно развивать промышленность! Государство требует развитой промышленности, но отбирает прибыль, на которую можно промышленность развивать! Где логика?
– Купцы ошиблись в расчетах – значит, были плохими купцами.
– Но государство, которое по прихоти прощает и убивает, это беззаконное государство!
Приятно было слышать, как юноша цитирует мой собственный текст. Действительно, элемент произвола в действиях сталинского аппарата присутствовал. Я постарался донести это до читателя. Помнится, я даже патетически воскликнул в заключительном пассаже: «Эти люди способствовали становлению молодого Российского государства, и вот как Россия платит за добро! Сатурн, пожирающий своих детей, – вот что такое коммунизм!»
– Сатурн, пожирающий своих детей, – вот что такое коммунизм! – воскликнул юноша.
– Да нет же, – сказал ему Гитлер. – Сатурн – это просто образ истории, только и всего. У истории может быть только один лидер, иначе наступает хаос. Заметьте, когда Зевс становится сильнее отца, он его тоже низвергает. Закон прост: тот, кто не может мириться с несправедливостью, должен ее уничтожить. Историю делают люди, у которых есть на это силы. Вот и все.
– Но этих несчастных убили за то, что они не соответствуют коммунистическим доктринам.
– Плохой купец все равно обречен: в Америке его застрелит конкурент, в Англии разорит банкир, в коммунистической России его казнил народ. Не партия, заметьте. Народ! А народ всегда прав. Воровать – плохо, и вор должен быть наказан. Вор, который украл много, должен быть казнен. Разве это несправедливо?
– Вы, то есть, я хочу сказать, ваши сторонники, – юный Виттрок смешался, не зная, как именовать движение Гитлера. Слово «национал-социалисты» еще не было в ходу, хотя партия существовала, – вы говорите с народом открыто, а сталинская партия народ обманывает.
– Значение Сталина измеряется не партией. Уже потом, когда дело сделано, приходят кабинетные щелкоперы. Мы на митингах вынуждены прибегать к ярлыкам – так проще объяснить ситуацию. Но как быть? Разве англичане поступают иначе? Поучитесь у парламентария Черчилля – вот вам пример того, как следует оперировать фактами. Да, посмотрите на Англию, юноша, посмотрите, какой энтузиазм! Поглядите на Италию. Вот пример того, чем может стать Европа. История, мой друг, делается на ваших глазах, так не закрывайте же глаз! Вчерашний поход чернорубашечников на Рим сегодня привел к власти великого Муссолини.
– Великого?
– Не надо стесняться этого слова. И Муссолини, и Черчилль, и Сталин – великие люди. Сегодня, в двадцать третьем году, великие люди берут судьбу Европы в свои руки.
Наступил тот момент беседы, когда собеседник глядел на Гитлера завороженно, ловил каждое слово. Адольф продолжал:
– Муссолини, Сталин, Черчилль – каждый из нас занимает свое место и делает тяжелую работу. Мы – саперы столетья. Старое здание стало ветхим – жить в нем опасно. Войны происходят сами собой, от общего нездоровья общества. Здание надо сломать – и мы, саперы, подводим мины. Когда здание рухнет – а оно трещит, разве не видите? – мы возведем новое, прочнее и выше. Сталин? Никогда не сравню этого сильного человека с провокатором Лениным, с этим еврейским демагогом. Сталин – враг, он – противник, но великий противник. Окажись Сталин в моих руках, я поступил бы с ним так, как рыцари поступают с пленными королями. Я предоставил бы этому человеку самый прекрасный замок в Европе, я окружил бы его почетом. Не правда ли, Ханфштангль? Разве не именно это я говорил вашей милой супруге?
Фрау Виттрок вздрогнула и вопросительно посмотрела на меня. Что ж, подумал я, так даже проще. Да, я женат, и женат удачно, на богатой и милой женщине, не имею причин жаловаться. Впрочем, и вы замужем, не правда ли? Все должно быть ясно с самого начала. Вы ведь подумали о том же, что и я, не так ли? Моя американская жена никогда не препятствовала моей личной жизни, она нам помехой не будет.
Не могу не упомянуть вскользь того факта, что Гитлер оказывал знаки внимания моей милой жене. Нет, оставьте вульгарные фантазии – их симпатия носила чисто духовный характер. Музыкальность моей супруги вызывала восторг у Адольфа: помню, как он прислал ей с денщиком корзину роз – в награду за написанный марш. В течение вечера моя милая Адель переделала марш студентов Гарварда в нацистский марш, ставший впоследствии весьма популярным. Я от души смеялся над такой простой, однако же остроумной находкой: студенческий припев «Ра-ра-ра!» Адель заменила на «зиг хайль! зиг хайль!» – и получилось убедительно. Не прошло недели, как наши партийцы стали распевать гимн гарвардских студентов, стуча пивными кружками по столу.
Да, именно так и делается история: одно цепляется за другое, и всем известные события вдруг оборачиваются неожиданным результатом.
Недавно мне попалась в руки брошюра некогда популярного эссеиста Ортега-и-Гассета; в свое время, когда автор был моден, я его не читал, а теперь, в пожилые годы, пролистал – и поразился недальновидности рассуждений. Описывая феномен фашизма, автор пишет о неожиданном проникновении варварства в тело европейской культуры, о так называемом «вертикальном вторжении варварства». Жили-жили, и вдруг случилось! Смешно! В культуре и истории одно явление вытекает из другого, надо уметь проследить цепь влияний. Северное возрождение Европы, которое готовил Адольф, опиралось на итальянское возрождение, которое совершил дуче, – в этом сказался великий принцип взаимосвязи культур. По тому же принципу, по какому Альфред Дюрер учился у работ Антонелло да Мессина во время своего итальянского вояжа и создавал в Нюрнберге Северный Ренессанс, опираясь на опыт Ренессанса Италии, – именно по этому самому принципу Гитлер заимствовал методы работы у своего предшественника Муссолини. Попробуйте вынуть из мозаики исторической картины одну деталь, и вы не поймете целого. Попробуйте обойтись без этого великого примера – Ренессанса XVI века, и вам никогда не понять Ренессанса века XX. Вас не радует отдельный фрагмент большой картины? Приучите себя смотреть на произведение в целом – научитесь глядеть на мир так, как глядели великие художники Возрождения, наши учителя и вдохновители.
Сегодня я не могу изменить ничего. Спросите меня, что хотел бы я изменить в прошлом, – мне непросто будет ответить. Нет, не в моих силах отменить лагеря смерти и поля сражений, покрытые мертвыми телами. Я не могу отменить ход вещей: случилось то, что должно было случиться, и, значит, такова была цена, по которой западный мир купил свой современный порядок. Лишь немногого я осмеливаюсь малодушно желать. Я хотел бы сделать так, чтобы мои отношения с фрау Виттрок, с моей дорогой Еленой, кончились иначе. Я хотел бы вернуть ту последнюю нашу встречу, в которой было сказано так много лишних слов – и не сказано нужных. И самое главное – я хотел бы отменить смерть молодого Йорга. Господи, прошу я иногда, обращаясь к тому, в кого никогда не верил, Господи, сделай так, чтобы не стало того дня, чтобы не было горящей курской земли, чтобы не выли самолеты, чтобы не летел к своей гибели бесстрашный мальчик, чтобы не билась у меня на руках его мать. Однако измениться ничто не может, история движется неотвратимо, и тогда, в маленькой мюнхенской гостиной, для мальчика уже был вычерчен путь – прямо в небо, к белому взрыву.