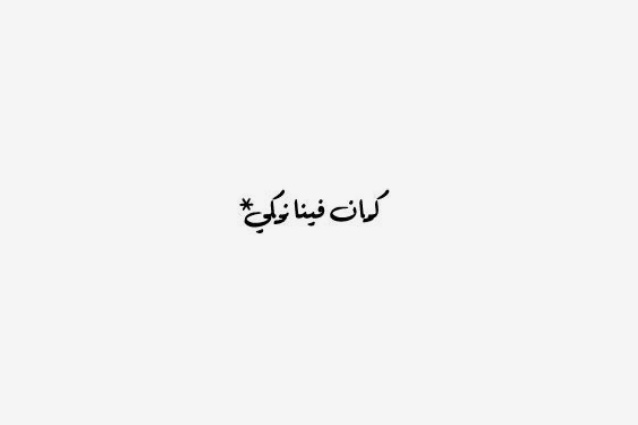Все, способные дышать дыхание
От автора:
Для того, чтобы читателю стали понятнее события, описанные в отобранных для этой публикации главах романа, мне хотелось бы сказать несколько слов об обстоятельствах, в которых оказались герои. Незадолго до изложенных ниже событий в Израиле произошел асон; слово это на иврите означает катастрофу, трагедию. Определить четко, в чем именно заключался асон, непросто — и поэтому бесконечно обсуждаются списки «признаков асона». Я выделю несколько наиболее важных:
1. Израиль проиграл разрушительную войну на своей территории (подробности этой войны не имеют значения).
2. Произошла «ашмад'ат арим» — «оседание городов», в ходе которого многие крупные города страны в одну секунду разрушились по совершенно необъяснимой причине, создав ситуацию гуманитарной катастрофы и вынудив большинство выживших переместиться в лагеря беженцев, население каждого из которых может исчисляться десятками тысяч человек.
3. Израилю невозможно оказать помощь извне — все попытки просто проваливаются так или иначе.
4. Поголовно распространилась «радужка», «радужная болезнь», выражающаяся в появлении радужных разводов на коже и хронической головной боли; для профилактики болезни необходимо два раза в день принимать «Рокасет» — распространенный израильский препарат, содержащий кодеин, парацетамол и кофеин.
5. Возникли так называемые «слоистые бури» — их еще называют «буша-вэ-хирпа» («стыд и позор», ивр.) Помимо абразивного воздействия на кожу человека и животного, эти бури оказывают сильнейшее психологическое влияние, вызывая у тех, кто не успел укрыться или облачиться в полипреновый костюм, сильнейшее чувство экзистенциального стыда за собственные мысли и поступки.
6. И наконец, животные обрели дар речи. Они не стали, как в сказках, умными, рациональными и вербально одаренными (за редким исключением) — они просто научились говорить.
Важно помнить, что некоторые составляющие асона имели место и в других странах мира, — например, животные заговорили в России, оседание городов имело место в Шотландии и Канаде и так далее, — но только в Израиле все эти явления существуют воедино.
13.
Длинный, короткий
Я слышал тут, как две землеройки говорили друг с другом, — для понта переходили пару раз на человеческий, такие подростки, рисовались перед лопающей что-то и безразличной к ним землеройной малышней, — говорили о каком-то несделанном деле: «Будет еще завтра, еще много раз завтра». Я помню, как однажды спросил Ерему, — до войны, до всего, — кажется, это был еще тиронут1, я спросил: «Как ты думаешь, а если все-таки ядерная бомба — то все, нам ***?» (это с вами говорит сейчас нарратор «Райка», если что; меня уже нет, а тогда я еще был). Ерема, который знал всё про всё назло своему папе, не знавшему ничего ни про что, но телевещавшему всем про всё, сообщил, что это «немножко философский вопрос», достал из китбэка свой трюханный блокнот и начал чертить, как обычно: вот, — говорит, — ось «время», а вот ось «люди», а вот тебе функция: весь вопрос в том, сколько времени будет длиться ***. Я читал, что во время короткого, но очень страшного *** можно спасти больше людей, чем во время длинного, но не очень страшного ***, а ядерная война — это на самом деле длинный ***, потому что бабах-то один, а ***-то после него много, так что скорее всего длинный *** потом убьет больше людей, чем бабах в начале. За четыре дня до асона я вдруг вспомнил эту историю по дурацкой причине: если я выживу, — подумал я, — то за спиной у меня останется ровно такая траектория, ровно такая длинная пологая кривая, какая была нарисована у Еремы в его затрюханном блокноте. Я сказал себе на всякий случай, что не выживу, как обычно говорил себе во всех ситуациях, в которых можно было не выжить (я тогда выжил). Я стоял какой-то подбитой кикиморой, — да ни *** я не стоял, я не то ползал, не то прыгал, спина раскалывалась у меня, в грудь упирался сраный автомат, который было непонятно, как взять так, чтобы об него же не калечиться, а передо мной были какие-то немыслимые, шелковистые, длинные, тонкие ноги, и слева от меня были какие-то немыслимые, шелковистые, длинные, тонкие ноги, и везде были ноги, и я боялся этих ног не меньше, чем снайпера, потому что понимал, что если в следующую секунду копыто опустится, например, мне на руку, то *** моей руке, и я молился этим козам (антилопам, антилопам), я внутри себя бесконечно повторял: «Козочки, козочки, ну пожалуйста, козочки, козочки, козочки, помогите мне, козочки, козочки, козочки», а они волнами бились об стену загона, как если бы надеялись ее снести и вырваться, и я ползал среди них, стараясь попасть в эту волну, — одна из них, с пулей в горле, рухнула прямо на меня, и я, кажется, начал орать вслух: «Козочки, козочки, ну пожалуйста, козочки, помогите мне!!!» Где-то за спиной у меня лежал Ерема, когда он упал и сразу умер, я сразу заплакал, я думаю, я не пополз бы прятаться среди этих прекрасных страшных ног, работай у меня хоть четверть мозга, но я заплакал и пополз из-за козьего домика, сквозь который снайпер лупил по нам с моим Еремой, как сквозь картонную коробочку, в сторону бьющегося об ограду, мертвого от ужаса стада, и впереди у меня была длинная-длинная кривая, сначала резко влево, потом круто вправо, потом прямо всего ничего, там метров двести до каменной коробки, — до каменного строения, в котором жил жираф, до пу-ле-не-про-би-ва-е-мо-го места, я, наверное, не переживу эти двести метров, — разве что козочки, козочки; очередную очередь выдали нам с козочками, одна упала вперед, подогнув коленки, как игрушечная дурацкая коровка, которой нажали на донышко подставки, и начала кричать ровно тем голосом, которым Адас Бар-Лев кричит, когда ... — а еще одна козочка запрокинула голову и стала так захлебываться собственной кровью, как будто пыталась напиться из душа; копытом меня хорошо двинули сзади по хребту, и от этой ослепительной боли я заорал и выстрелил очередью в замок загона. И понеслось. Я помню, что пытался по дурости хвататься то за одну шкуру, то за другой загривок, а потом я просто закрыл глаза, орал и бежал, а они орали и падали, мы орали и неслись, и неслись, конечно, не так и не туда, неслись прямо на прорванную, обожженную жирафью ограду, за которой зиял ров, и я вдруг начал хохотать на бегу, потому что внезапно понял, насколько смерть от пули легче и лучше смерти от копыт, и я сказал себе, что не выживу, до рва оставался метр, и тут они полетели, мои козочки, а я сжался и покатился, вдавливая в себя *** автомат, покатился, с воем долбясь спиной и животом о камни, а потом я лежал и смотрел, как они летят надо мной. Мне показалось, что они летят долго-долго, мои козочки, мои красавицы, повисают надо рвом и летят-летят, и пузики у них такие белые-белые с черною каемочкой, такие идеально приглаженные, и шерстка завернута узором, и у каждой — своим, вот одна на меня упала, а вот другая. Когда через двести двадцать тысяч часов мне станет по-настоящему (по-настоящему) безразлично, выживу я все-таки или нет, и я полезу наверх и огляжусь, я увижу, что вытоптанная нами трава и поломанные кусты, развороченные оградки и покалеченные таблички — это идеальная прямая от мертвого Еремы к живому мне, от большого *** к маленькому ***очку, и по этой прямой разложены мои козочки; и я пройду и каждую из них поглажу, а некоторых добью.
24.
И как?
74.
Брадифазия — это...
...замедленная речь как результат заторможенности мышления. «Мы Гольдберги…» — невыносимо медленно говорил радужный, как волшебный камень, жук, слишком слабый, чтобы оторвать от земли огромные и прекрасные свои мандибулы. «Мы Гольдберги…» — но дальше дело не шло, и каждый раз было Йонатану Киршу непонятно, зачем жук это произносит и чего от Йонатана Кирша хочет — но чего-то же явно хочет? Жуки знали всё, и все знали, что жуки знают всё, но разговаривать с ними было невозможно, и один только Йонатан Кирш жуков этих, сбившихся в стадо под корнями пламенеющего и нежного абришима на площади Рамбам, не избегал, сам не зная почему: может, именно из-за того, какой медленной и необязательной была их речь, Йонатан Кирш и сам мог сказать с ними пару слов. Вообще же Йонатан Кирш спускался на землю редко, нехорошо было на земле — впрочем, и наверху было нехорошо, были там белки, которые приходили стаей, обсиживали дерево и опустошали, не оставляя Йонатану Киршу ни ягодки, ни задохшейся твердой мандаринки, и майны, ни с кем не вступавшие в сговор, намертво державшиеся друг друга и умевшие кричать чужими голосами, чтобы наивные, обманутые воробьи и горлицы говорили им, где поспела горькая пираканта, этим страшным, буйным летом плодоносившая ягодами размером с вишню; даже птенцы майнов — и те умели сбиться в кучу и медленно, медленно гнать Йонатана Кирша с ветки на ветку, пока не приходилось ему улететь. Никому не удавалось договориться с майнами ни о чем, а Йонатан Кирш в изгойском своем одиночестве был покорным и сговорчивым — может быть, это и почуяли тогда псевдопёски, египетские летучие собаки, отбившие его у котов, — увидели, что от него выйдет им немалая польза, — а может, и просто пожалели по какой-то, что ли, летной, крылатой общности; но больше всех бились за него тогда Крупный и Худая, этих Йонатану Киршу трудно было заподозрить в сострадании, — они так точно поняли, что, когда он перестанет трястись и задыхаться, его можно будет пустить в дело. Так и вышло, что послушный Йонатан Кирш с сильным клювом и сильными ногами, которые кое-как держали его на скользких радужных ветках, жил на земле, с псевдопёсками, а день свой проводил наверху, сбрасывая вниз финики, резиновые личи, лопающиеся при ударе об асфальт, и страшные, как меч, стручки рожкового дерева, которыми Йонатан Кирш каждый раз боялся убить кого-нибудь из мелкоты. Псевдопёски поселились в дальних комнатах Бейт а-Эзрах, темных и забитых столами, бумагами, цементными осколками, но в остальном почти целых, и Йонатан Кирш спал там, среди них, забившись в угол; на полах уродливых кабинетов этого этого уродливого здания лежали коврики, и передвигаться по ним и по плотному слою бумаг псевдопёскам было легче, чем по скользкому мрамору; хорошее место; один раз, правда, в Бейт а-Эзрах заходили шакалы, переселившиеся в эти пайковые края из парка Яркон; шакалам понравилось, и пришлось псевдопёскам орать невыносимыми голосами (поразительно похожими на шакальи) и бить шакалов отяжелевшими крыльями по мордам; в ход пошли зубы, Худая и еще двое погибли, а маленькому черному самцу, который всегда был против Йонатана Кирша и его небесной помощи не принимал, шакал зубами оторвал крыло, — он две ночи плакал, пока не умер, и Йонатан Кирш под этот плач почему-то думал о Даниэле Бартмане, и думал, к своему удивлению, совсем не плохое, жалостливое. Шакалам было тяжело: кроме пайков, никакой еды для них теперь не было, пайки же армия в стальной и непреклонной мудрости своей стала с некоторого момента планомерно урезать (не без помощи Иланы Гарман-Гидеон алюф Гидеон придумал слоган «Лагерь — новый город» и гнул свою линию, не видя повода и дальше тратить драгоценные ресурсы на раздачу пайков отщепенцам). Шакалы же, в свою очередь, рассказывали про лагеря страшное: то говорили, что люди стали выгонять из лагерей животных, то наоборот, что за пределы лагеря теперь запрещено выходить, за все наказывают, требуют, чтобы в стае было не больше трех шакалов (тут Йонатан Кирш полностью готов был лагерные власти поддержать), и запрещают бадшабам переговариваться своим языком. Йонатан Кирш хотел однажды толком поговорить про лагеря с отставшим от своих старым шакалом (запаха целой стаи он вынести не мог, пахли шакалы хуже псевдопёсков), расспросить, но шакал о лагерях говорить не желал, а желал говорить только о котах, да и тут все его разговоры сводились к глухой и тоскливой смертной ненависти. Йонатан Кирш не раз видел издалека, как на развалинах коты и шакалы дерутся группами насмерть, а однажды довольно близко наблюдал, как шакалы с котами бились по очереди, один на один, а люди стояли вокруг, кричали, хлопали, и на этом месте утром была кровь и пустые консервные банки, — от людей везде оставались консервные банки, и один человек — огромный, пухлый, — иногда их собирал эти банки в огромные пухлые черные пакеты и с руганью относил к переполненным, вонючим мусорным бакам; смысла в подобных действиях никакого не было — понимали это и Йонатан Кирш, и сам пухлый человек. Иногда из этих баков пытались есть олени, а еще случалось Йонатану Киршу видеть страуса, злого и бесстрашного, рвущего черные пакеты клювом; страус получал рокасет и кусал солдатам пальцы, когда высыпали ему в рот очередной порошок, и ходил слух, что в живом уголке парка Яркон страусов было два, и что второго этот, кривоногий, забил клювом уже в городе — не поделил с ним кубики с картинками, к которым сам сильно пристрастился. Страус в последнее время стал навязчивым ужасом Йонатана Кирша, почему-то боялся он его сильнее, чем шакалов и котов — может, потому, что бедные умирающие Гольдберги боялись страуса так, что смогли даже выдавить из себя историю о том, что страус дальним жукам, Кацам, жившим аж на детской площадки за Шдерот А-Елед, поразбивал клювом спины; есть, конечно, не стал, а красивые, больные, радужные надкрылья позасовывал себе между перьев; не было зверя страшнее страуса, и, хотя почти никто его не видел, все страшились его, даже олени, пришедшие из парка непонятно зачем, — вот уж кому и без пайков в парке еды хватало; а только все равно лучше бы им, дурачкам, в лагеря — но они так боялись людей, что даже за рокасетом к солдатам не подходили, смотрели издалека, и глаза у них были невозможной красоты — радужные, а в середине черные; без рокасета оленям было совсем плохо, и по всему Рамат-Гану лежали маленькие кучки ярко-зеленой оленьей рвоты, и еноты иногда за порошок-другой уговаривали оленей перевезти их, енотов, на большие расстояния, даже и на другой конец Рамат-Гана. Страшен был мир внизу, страшен наверху, и нигде не было места бедному Йонатану Киршу, лишенному стаи и дома, и он ждал смерти, а все равно не мог отказаться от солдатских порошков и консервированных ананасов, которые приносил человек в черной кипе, покрытой серой пылью, и презирал себя, и по ночам с закрытыми глазами пытался представить себе, что его, Йонатана Кирша, больше нет, и только это приносило ему утешение, а от разговоров рабби Арика Лилиенблюма с псевдопёсками, наоборот, делалось только хуже, и Йонатан Кирш старался их не слушать, потому что из них всяко выходило, что он, Йонатан Кирш, долго еще вынужден будет быть. Чего от этих разговоров ждал и хотел рабби Арик Лилиенблюм — это сейчас дело десятое, это выяснится позже, в другой главе, но вот чего он не ждал точно — это что псевдопёски начнут по вечерам про что-то спорить, быстро говорить, даже пару драк видел Йонатан Кирш, пока не забивался в угол и не закрывал глаза, и главное слово в этих визгливых спорах было «Иерусалим». Йонатан Кирш почувствовал недоброе и испугался; он спустился даже к жукам Гольдбергам, долго молчал, а потом сказал: «Иерусалим?» — и самый старый, еле движущийся жук Гольдберг даже оторвал мандибулы от земли и сказал: «Если увидите там… Если там увидите…» — но договорить не смог, хотя Йонатан Кирш пару раз двинул его клювом. Так Йонатан Кирш понял, что Иерусалим — это какое-то «там», а потом вдруг как-то оказалось, что завтра, буквально завтра с утра псевдопёски отправляются в Иерусалим, вот так, по земле, таща на себе младенцев, и рабби Арик Лилиенблюм, в ужасе от результатов собственного труда, пытался им что-то говорить, смешно и дерганно взмахивая черными руками, но псевдопёски отвечали про молоко и мед, а еще говорили, что тут их убьют, непременно убьют, тут у них своего места нет, а там — там будет, и еще что не хотят растить здесь младенцев, и еще про какую-то песню, ужасную песню, и что не может в прекрасном Иерусалиме быть такой ужасной песни. От отчаяния рабби Арик Лилиенблюм заговорил даже с Йонатаном Киршем, сказал: «Они вас уважают, может, они послушаются вас, ну пожалуйста, скажите им, я знаю, вы же можете», но изумленный Йонатан Кирш только отвернулся к стене, а ночью снова пошел к жукам Гольдбергам. Старый жук уже умер, Йонатан Кирш сказал: «Иерусалим» его тяжело движущейся жене, и медленно, слово за словом выбил из нее, что ему надо туда, что все такие, как он, Йонатан Кирш, — огромные белые и мелкие бледно-желтые, карикатурно-голубые и ослепительно зеленые, — летят туда, в Иерусалим, испокон веков слетались в Иерусалим, в зоопарк, все они летят в зоопарк, там все такие, как он, Йонатан Кирш, там хорошо. В ярости Йонатан Кирш чуть не убил жучиху Гольдберг, а если бы старый жук Гольдберг был жив — он бы, наверное, убил и его; Йонатан Кирш молча отшвырнул жучиху Гольдберг ногой, но она сумела перевернуться с живота на спину, поползла к нему, сказала: «Если увидите… Если там… Или где… Нойбергов, Нойбергов… Или сестер Розен… Скажите им… Скажите про нас… Скажите, что мы умираем». — «Куда?» — спросил Йонатан Кирш, и жучиха Гольдберг, всегда знавшая, как и все ее племя, где Иерусалим, показала ему, и он полетел.
Уставал он быстро, и голова у него начала болеть быстро; один раз он думал даже спуститься и попросить рокасета, когда увидел внизу пайкомобиль на пустой площади пустого города, и серую, слабую очередь к нему; но он не был приписан здесь, а мысль о том, чтобы вступить с солдатами в объяснения, была невозможной. Оставались еще еноты, но лучше была головная боль, чем еноты, и он просто решил лететь медленно, отдыхая чаще, чем хотелось бы. Пока внизу был город, он забивался под разрушенный камень, один раз к нему как следует принюхались два кота, он проснулся чудом, чудом же сумел прорваться вверх сквозь какую-то черную трещину, хорошая порция перьев осталась котам на украшения, коты это с некоторых пор любили; впрочем, могло оказаться, что именно эти коты украшают себя вовсе даже не зеленым, а белым или красным, он видел пару раз, как белые бьются с красными, последние чаще всего как-то метили себя обрывками липких бумажек, которыми запечатывались пайковые пакеты с кормом. Еду он по-быстрому заглатывал, стараясь не терять бдительности; его манили деревья, на которых с недавних пор стали расти сразу бананы и виноград, или, скажем, финики, внутри которых обнаруживались молочно-нежные ядра белого ореха, или даже кусты рдофа, на которых стали появляться маленькие засахаренные кумкваты, которые Йонатан Кирш обожал в своем маленьком, засахаренном детстве. Но вокруг всех этих сладостных даров божиих шла война, внизу и наверху, и Йонатану Киршу приходилось довольствоваться пресными яблоками и опавшими финиками, и там, среди фиников, видел он очередных медленных, радужных, с мандибулами, словно приковывающими их к земле; они указывали ему направление, а он, сам не зная, зачем это ему, спрашивал их: «Нойберги?», и они говорили ему: «Мы Хаиты... Хаиты... Но если там... Если вы там... Аксельманов... Яселей... Или Розен, сестер Розен... Скажите им про нас... Скажите — ...» Йонатан Кирш не дослушивал, зная, что сказать, и тяжело поднимался в воздух, и летел большую часть времени с закрытыми от боли глазами: маршрут его из-за этого был дик, он понимал, что летит как-то наобум, рывками и зигзагами, но понимал и то, что приближается к цели, и на каждой передышке спрашивал: «Аксельманы? Нойберги? Ясели? Хейфецы? Шиллеры?», и еще, и еще, и только один раз оказалось, что его собеседники — действительно Шиллеры, но это были не те Шиллеры, и никаких Маршаков они не знали, но знали сестер Розен и говорили: «Розен... Если увидите сестер Розен...» На четвертый день он ночевал в городе, где не было вообще никого, ни жуков, ни людей, ни белок, и не росло ничего вкусного; все стены тут были исписаны вязью, в стенах были дыры от пуль. Йонатан Кирш попробовал рвать и жевать газеты, исписанные такой же вязью, хрустящие от долгого лежания на палящем солнце, потому что слишком устал, чтобы искать что-нибудь более подходящее среди листвы. Подлетая, он видел левее, совсем немного левее огромный и бесформенный, огражденный коричневым и исчерченный желтым лагерь; жуки говорили о нем что-то, он запомнил: Бет, караванка Бет. Вкус газеты был отвратительным; Йонатан Кирш закрыл глаза и позволил себе вообразить, каково это — пайки каждый день, и рокасет каждый день, и, наверное, можно пожаловаться кому-нибудь тайно, не выдавая себя, на шакалов и на котов, — а может, и жаловаться ни к чему; в конце концов, можно было бы не говорить ни с кем, кроме этих самых жуков, должны же там быть эти жуки, живые и бодрые, какие-нибудь Адлеры или Берковичи, а то, глядишь, и Ройзман, сестры Ройзман, они бы сказали всё за него. Внезапно Йонатан Кирш перестал понимать, какие, собственно, препятствия мешают ему поступить именно так. Лагерь, сладостный лагерь, стоял перед ним яркой картинкой вроде тех, которые рисовал до войны Даниэль Бартман — быстро, безрадостно, Йонатан Кирш знал: это было ненастоящее, «халтура». Слово «халтура» тут же вцепилось в Йонатана Кирша, он и сам не смог бы объяснить, почему податься в лагерь — это «халтура», почему надо двигаться дальше: не в жуках же было дело, господи помилуй, не обязался же он им, в конце концов, и, кроме того, что ему до «таких, как он», жил он без таких и дальше будет жить без таких, а только в воображении Йонатана Кирша были теперь как будто две линии, и одна, с чистым и понятным словом — «лагерь» — была грязной, а другая — с пыльным, и больным, и кривым словом «Иерусалим» — чистой, и от досады Йонатан Кирш медленно заплакал, слезы были радужные и падали Йонатану Киршу на радужные когти, а потом он заснул.
Проснулся Йонатан Кирш от чьего-то огромного беззвучного присутствия и, раскрыв глаза, беззвучно, дико заорал, высунув до упора длинный черный язык. Двое сидели перед ним: манул с подранным, но уже хорошо заживающим боком и мелкий, узкоголовый ягуар, припадающий к земле от малейшего шума. Йонатан Кирш попытался взлететь, но манул успел перехватить его тяжелой лапой, и Йонатан Кирш, дрожа, остался сидеть на земле. «Да не трясись ты, — раздосадованно сказал манул. — Вот же везет мне на трясучих. Что мы тебе сделаем, ну?» Йонатан Кирш хорошо помнил, что с тобой могут сделать коты — просто коты, мелкие рамат-ганские коты, — даже и теперь; он дрожал. «В Иерусалим, небось, летишь? — сказал манул. — Видали мы тут таких». «Пошли от него, — плаксиво сказал ягуар. — Вон облако какое; а ну как начнется? Пошли». — «Как же ты *** меня, — сказал манул, глядя на ягуара с отвращением. — Ну что ты за мной ходишь, а? Прись уже в Бет, там тебе, тряпке, самое место, а? В семь утра подъем, в семь тридцать зарядка, а? В десять отбой, я на тебя посмотрю, как ты, дебил, в десять заснешь. Или нет: запрягут тебя на ихней фабрике в тележку, будешь с девяти до пяти мешки таскать, а? Вали уже от меня». Ягуар смотрел на манула обожающими глазами. Манул дал ягуару хороший когтистый подзатыльник, привстав для этого на задние лапы, и спросил Йонатана Кирша, откуда он. Йонатан Кирш молчал. Тогда манул спросил Йонатана Кирша, долго ли он уже летит. Йонатан Кирш молчал. «Молчишь, да?» — сказал манул, глядя на Йонатана Кирша. Йонатан Кирш с трудом кивнул. «Видали мы тут таких», — сказал манул. Йонатан Кирш все еще боялся шевельнуться. Манул сказал, что много чего видал в зоопарке, много видал его, Йонатана Кирша, отродья, оно-то по клеткам не сидело, а где хотело, там и летало; были совсем гады, дразнят, только что не на нос садятся, в еду гадят, а были и ничего, но такие вот, как Йонатан Кирш — они часто гады. Йонатан Кирш яростно замотал головой, а манул сказал, чтобы он расслабился, хоть бы и гад, теперь-то не те времена, да и мы не в зоопарке. Видно было, что о зоопарке ему хочется поговорить. Йонатан Кирш осторожно поднял голову, заставил себя кое-как взглянуть на манула, — мол, да-да, я слушаю, говорите в свое удовольствие. Манул говорил много и быстро, и зоопарк, зеленый и пронизанный светом, возникал здесь, в городе без людей и жуков, призрачным и прекрасным первозданным миром; а про то, что случилось потом, потом, — когда бежали из зоопарка те, кто мог, бежали и ходили по улицам Иерусалима, и плакали, и кричали, и солдаты стреляли в них транквилизаторами — про это он не говорил, а сказал только, что и он, манул, и его жена, и многие еще, проснулись в тесных клетках, в огромном ангаре, где пахло железом и страхом, а потом был асон, и лагерь «Алеф», и в лагере тоже было очень плохо, потому что одни люди все время хотели к ним лезть, а другие люди, наоборот, хотели их всех выгнать, потому что им самим не хватало ничего, и была стрельба, и крик, кто-то погиб, — например, два белых медведя, злых и бешеных, и почти все обезьяны, потому что они, дуры, не хотели прятаться, воевали на стороне первых людей, кидались камнями, вцеплялись в волосы, но вторые люди победили, устроили дезинсекцию, а остальных собрали, построили, обвязали веревками, с плетками и криком привели сюда, в город Аль Джиб, и выпустили, — пусть их армия кормит; а птицам, сукам, хорошо, жри с деревьев, лети в свой сраный Иерусалим. Йонатан Кирш не смотрел на манула, не мог, а смотрел на стену какого-то красного домика с опавшей стиральной веревкой, аккуратно увешанной прищепленными трусами; веревку покачивал ветерок, и зеленые поношенные трусы то скрывали зад нарисованной на стене страшной собачки с револьвером вместо хвоста, то снова открывали. Одна прищепка вдруг отщелкнулась и упала манулу под ноги, Йонатан Кирш не выдержал, посмотрел на манула и вдруг увидел, что у того в уголках рта выступает пена, а потом манул вдруг со всего размаху ударил по шее ягуара и бросился бежать прочь, куда-то в низкие темные переулки. Ягуар посмотрел ему вслед, сказал нежно: «Вот говнюк» — и побежал следом, хвост у него был грязный, шерсть слиплась, и почему-то от вида этого хвоста Йонатан Кирш принялся судорожно чиститься, а потом забрался повыше, пролез в темное, похожее на птичий глаз чердачное окно и там заснул. Ночью его два раза будило громкое пощелкивание: еноты обходили район, предлагали порошки, шоколад, кубики с картинками. Йонатану Киршу страшно хотелось горького обезболивающего порошка, и на третий раз он не выдержал, спустился к енотам. Они долго не понимали его жестов, потом сообразили, с него потребовали фиников и долго вели его к дереву с финиками и фиолетовой приторной клубникой размером с его, Йонатана Кирша, голову. Он попытался сперва выпросить порошок — долбить финиковые черенки раскалывающейся головой было омерзительно, но еноты сделали странное: сложили пальцы так, что один, большой, торчал между средним и указательным, и Йонатан Кирш догадался, что порошка вперед ему не будет. Он кидал и кидал вниз финики, еноты требовали еще, и под конец от боли и головокружения Йонатану Киршу стало все равно, он спустился и лег, уперев лоб в землю, как если бы были у него тяжеленные, огромные рога, тянущие голову вниз, и тогда еноты перевернули его, один порошок высыпали в рот, а второй положили рядом, финики завернули в какую-то тряпку, ушли, он остался лежать, и от долгого перерыва кодеиновый порошок сделал с ним удивительное: стало ему легко и внутри как-то мягко, и выяснилось, что второй порошок тоже очень важно принять прямо сейчас, и он развернул бумажку, вылизал порошок языком. Может быть, так хорошо стало Йонатану Киршу просто потому, что прошла головная боль, а может, дело было совсем в другом, но только чистое слово «Иерусалим» вдруг пошло у него в голове сияющими радужными разводами, и ясно стало, что лететь надо сейчас, прямо сейчас, и Йонатан Кирш, пружиня на странных мягких ногах, обошел несколько деревьев — а может, сто, — и нашел жуков-оленей, и пожалел их так, что чуть не заплакал, — но, к счастью, были они не Хаиты и не Аксельманы, не Маранты и не Берковичи, и не было у Йонатана Кирша для них печальных вестей; «если увидите... если увидите...» — «...сестер Розен?» — спросил Йонатан Кирш, и ему сказали, что не знают, кто такие сестры Розен, но если он увидит хоть кого-то, хоть кого-то из наших — пусть скажет... Йонатан Кирш знал, что сказать, а ему объяснили, что лететь в Иерусалим теперь вон туда, это уже близко, а зоопарк будет сразу, как прилетите, — но как Йонатан Кирш не старался, он уже не мог представить себе зоопарк.
Действие порошков кончалось, кончалось и кончилось, он летел крошечными отрезками, то и дело садясь, чтобы перевести дух, и теперь держался древесных крон, чтобы не слышать и не видеть больше Фридманов и Айзенштернов, и как ни страшно было наверху, на ветках (один раз его страшным верещанием, от которого он проснулся, хватая ртом воздух, разбудила огромная стая мармозеток, пытавшихся от любопытства, а то и еще за каким делом, хватать его руками; он еле улепетнул от них) — это было лучше, чем внизу. В Иерусалим с его чудесами, с его стаями родных душ и деревьями, на которых только свои чистят перышки своим, он словно бы больше не верил; двигало им упрямство — и понимание, что занять себя ему больше совершенно нечем, жизни в нем словно бы всего и осталось, что на этот перелет, а там хоть коты. Иерусалим открылся перед ним в одну секунду: вот не было его, а вот он есть, и по всему Иерусалиму стоял горький лекарственный запах. Он пристроился на ветке и смотрел: внизу ходили люди в белых костюмах и масках, армейские люди, со шлангами, начинающимися где-то в грязных боках белой армейской машины, и распыляли белый порошок, и в ужасе он подумал, что это дезинсекция, прямо тут, на улицах, и попытался не дышать, но запах был слишком знакомый, аптечный, горький, манящий, и Йонатан Кирш понял, что эти люди распыляют рокасет, что рокасетом текут улицы иерусалимские, и спустился, и никто не гнал его, и кругом были коты и еноты, уродливые мелкие шакалы, и крысы, которых Йонатан Кирш раньше никогда не видел, и божьи коровки, и все они ходили по порошку и нюхали порошок, и Йонатан Кирш вместе с ними нюхал прекрасный, неподвижный в своем безветрии порошок, нюхал его, пока не перестала болеть голова, но не мог остановиться и еще нюхал, над ним уже беззлобно посмеивались молодые крысы, а поджарый лысый кот со страшной, как в ночном кошмаре, головой, сказал ему: «Мальчик, а приостановись-ка», но Йонатан Кирш приостановился только тогда, когда ноги и спина у него стали неметь, как будто по всему телу ползла радость, и от радости больше не надо ему было чувствовать измученное свое тело. «Зоопарк, — сказал он, обращаясь сразу ко всем. — Зоопарк», и ему сказали, что не надо ему в зоопарк, что про зоопарк говорят такое, что не надо ему в зоопарк, что все ваши давно разлетелись из зоопарка. Он засмеялся и не поверил, лететь на немеющих крыльях было трудно, но приятно, он как будто все время проваливался вниз, а потом медленно, тяжело снова набирал высоту, это было смешно, а когда он опять провалился вниз, он увидел там, внизу, сестер Розен.
Они были ярко-рыжие, огромные, совершенно не похожие друг на друга: одна была почти квадратной, как коробка, а другая — длиннющей и узкой, и мандибулы у них обеих были увесистые и страшные, почти мужские, и когда Йонатан Кирш увидел их, они были заняты делом: то ели, отрывая огромные куски, текущий соком шесек, а то вдруг дрались между собой. Йонатан Кирш сел перед ними и начал перечислять. «Гольдберги, Аксельманы, Хец, Нойманы, Ясели, Шиллеры, Арманы, — говорил он и добавлял: — Они умирают», — и продолжал: «Лерманы, Саабы, Захаровы, Айхманы, Икерманы, — и добавлял: — Они умирают», и когда он упомянул Авнеров, Сомов и Емецев, квадратная жучиха, капая шесековым соком на свою сестру, обернулась, наконец, к нему и заорала. От неожиданности Йонатан Кирш попятился, но жучиха не давала ему уйти, шла за ним, шевеля страшными жвалами, а сестра у нее за спиной разворачивалась медленно, как танк, и слабым эхом повторяла, слово в слово, фразы старшей сестры — про то, что Савидоры и Мозманы, Корманы и Златковы жили там, где жили, а не тут, где им положено было жить, и считали, что им можно жить там, где они живут, а не тут, где им положено жить — и вот чем это закончилось, и что они были идиоты, и вот чем это закончилось, а Йонатан Кирш все пятился и пятился, и под конец не полетел, а косо, тяжело побежал по земле, по перегоревшим от жары листьям, по тонкой изморози белого порошка на траве, потому что боялся, что страшные сестры Розен поднимутся за ним в воздух и там, на лету, сделают с ним совсем уж бог весть что. Он пробился сквозь какую-то покореженную сетку, побежал, ныряя шеей, на ставших тяжелыми ногах и забился в корни какого-то никогда раньше не виданного дерева, так, чтобы вкопанная в землю маленькая табличка с текстом загораживала его от мира. Кто-то пел и разговаривал в кроне дерева десятками голосов, — точно таких, каким бы пел и разговаривал Йонатан Кирш, если бы он разговаривал и пел; несколько раз мелькнули в воздухе хвосты — синие и зеленые. Йонатан Кирш зажмурил глаза, чтобы не видеть этих хвостов, и несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, а потом лег на землю, как ложился на пол Даниэль Бартман. Ему стали видны две пары ног в стоптанных армейских сапогах; обладатели этих ног явно жгли коноплю, один говорил, что всех их отвезут в Рамат-Ган, что база теперь в Рамат-Гане, а другой не соглашался и говорил про Ашдод, говорил, что в Ашдоде под землей построено такое, о чем никто не слышал, а только у него двоюродный брат служил с человеком, чей сосед во время милуима проходил месиму в Ашдоде, и там под землей... Йонатан Кирш слышал их не очень хорошо, потому что с ветром волнами наплывал рокот, как будто гигантский жук, размером с тысячу сестер Ройзман, готовится подняться в воздух. «Если увидите... — сказал Йонатан Кирш. — Если увидите» — но так и не сумел придумать кого.
57.
Малыя бесы
— Малыя бесы
Надо мной лета-али,
Все мечтали полюбить,
А кого — не зна-али... —
затянул хриплый голос внизу, во дворе. Песню подхватили другие собаки, и он проснулся окончательно.
__________________
1 Курс молодого бойца, первый этап службы в израильской армии.