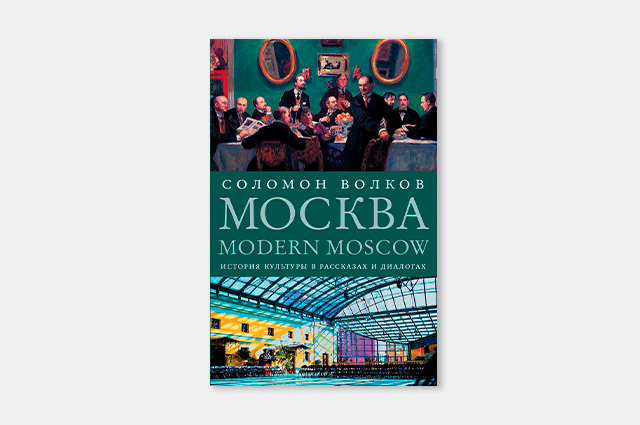Соломон Волков: Как открывался МХТ имени Чехова
В преддверии открытия МХТ газета «Московский листок» изумлялась: «Ни одно театральное предприятие не вызывало столько толков, горячих споров, суждений вкривь и вкось, как новый театр Станиславского и Немировича-Данченко. Новизна дела, новизна приемов, оригинальность организации — все это уже теперь нашло горячих поклонников и, как всегда, пессимистически настроенных скептиков».
Конэсеры сомневались, сможет ли труппа «без звезд» выдержать конкуренцию с кумирами московской публики — актерами императорского Малого театра, такими как прославленные Мария Ермолова, Александр Южин, Александра Яблочкина. Но заинтригованная публика уже брала билеты с бою. 14 октября 1898 года МХТ начал свою жизнь исторической стихотворной драмой Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович». Пьеса эта открывалась словами боярина Шуйского, которые прозвучали со сцены как заклинание: «Да, да, отцы! На это дело крепко надеюсь я».
На самом-то деле МХТ возлагал надежды в первую очередь не на «отцов», а на «детей» — на московских студентов: им должны были понравиться и молодые актеры, и тот факт, что драма А.К. Толстого тридцать лет пролежала под цензурным запретом и в Москве показывалась впервые как сенсационная новинка.
Первые рецензии были кислыми. Критики сетовали, что на сцене слишком много движения и суеты, что массовые эпизоды получились чересчур крикливыми, а молодые исполнители, наоборот, лишены темперамента: «Покамест смотреть их ровную, не согретую, если хотите — вымученную игру несколько скучно».
Побывавший на премьере новоназначенный директор Московской конторы Императорских театров Владимир Теляковский в своем дневнике отозвался еще более сурово: «…играли плохо, декорации с претензиями, прилажены плохо, общее впечатление: любительский спектакль…»
Позднее и Станиславский, и Немирович признавали, что их первая совместная работа оказалась все же недостаточно революционной. Внешних инноваций было много, и о них немало тогда писали: театральный занавес не поднимался, а бесшумно раздвигался; с началом представления в зале стали впервые гасить свет; опоздавших не допускали в зал во время спектакля; отменили одну популярную традицию — музычку во время антрактов и запретили другую — аплодисменты во время действия, в ответ на которые артисты с удовольствием раскланивались. Теперь они выходили на поклоны все вместе по окончании спектакля.
Эти мелочи, ныне такие привычные, в конце ХIХ века поражали и раздражали. Они подготавливали фундаментальные сдвиги в отношении к театру как общественной институции. Но до того особого места, какое МХТ занял позднее в русском и мировом культурном пантеоне, ему было еще далеко. Этот путь Художественный театр проделал с помощью чеховской драматургии.
Немирович это чувствовал острее, чем Станиславский. Он писал о начальных шагах театра, что это был только «как бы некий корректив старого. Прекрасные внешние новшества не взрывали глубокой сущности театра». МХТ спокойно мог отправиться по дороге историко-бытовой драмы, «исторического натурализма», как выражалась тогда критика.
Но у Немировича на руках уже была чеховская «Чайка».
Ни он, ни Чехов не помнили, когда и где они познакомились. Это могло произойти в Московском университете, где будущий режиссер учился на физико-математическом факультете, а будущий писатель — на медицинском. Но уж точно они должны были столкнуться в редакциях московских юмористических журнальчиков, куда еще в студенческие годы приносили свои первые «опусы», сочинявшиеся исключительно для заработка. (Хотя оба получали стипендии — Немирович от своего родного Тифлиса, Чехов от Таганрога, — но денег вечно не хватало.)
Немирович одним из первых оценил дарование Чехова-драматурга. Известно его высказывание: «Чехов — это талантливый я». Оно иногда трактуется как пример неслыханной прозорливости и неслыханного самоумаления Ничего подобного. Вот если бы он написал: «Чехов — это гениальный я»…
Чехов, в свою очередь, отзывался о своем знакомце с симпатией, но не более того: «Мне кажется, что сей Немирович очень милый человек и что со временем из него выработается настоящий драматург. По крайней мере, с каждым годом он пишет все лучше и лучше. Нравится он мне и с внешней стороны: прилично держится и старается быть тактичным. По-видимому, работает над собой».
Мысль о «работе над собой» была, безусловно, чрезвычайно важна для Чехова. Вспомним знаменитые чеховские слова из письма к Суворину: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...»
Бунин, изучая фотографии Чехова, заметил, что у того лицо менялось практически каждый год. Сначала — губастый малый с азиатским разрезом глаз, «настоящий монгол». Потом — пошлые усики: типичный земский доктор. И вдруг — какое стало лицо тонкое и благородное! «Чехов жил небывало напряженной внутренней жизнью», — заключал Бунин.
У Чехова был культ труда. На эту тему он, избегавший высоких, «красивых» слов, мог говорить долго и горячо: «Чтобы хорошо жить, по-человечески, надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого». Архитектор, говаривал Чехов Горькому (с чувством безнадежности, близкой к отчаянию), выстроив парочку приличных домов, «всю оставшуюся жизнь играет в карты». Актер, сыгравший сносно две–три роли, «надевает цилиндр и думает, что он гений». «Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей, они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят».
Горький вспоминал: «Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел…» Быть может, здесь и сокрыта загадка личности Чехова? Для меня несомненно, что из всех великих русских писателей он обладал самым сложным характером. Пушкин при всех его противоречиях был, вероятно, самым ясным и гармоничным. Но даже Достоевский и Толстой рядом с Чеховым выглядят как-то проще и понятнее.