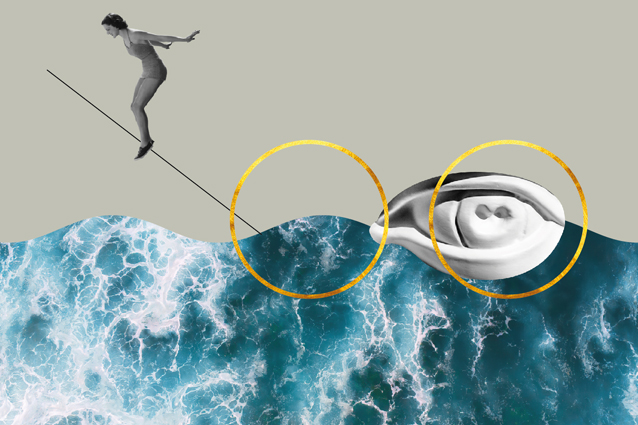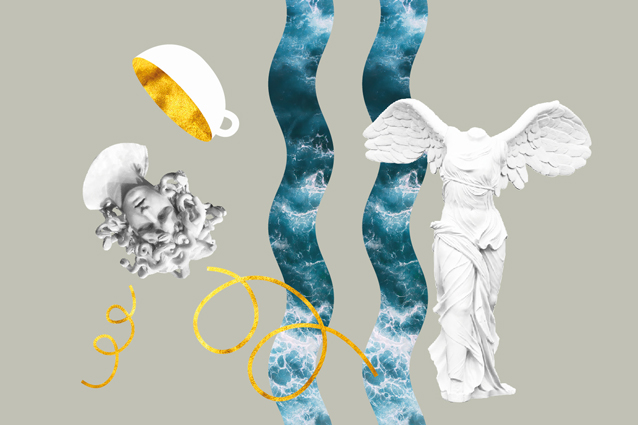Море за спиной. Три рассказа Елены Панделис
Елена Панделис — московская гречанка. В этом триптихе — три повествования, связанные единой атмосферой, единой шифровкой, единым словарем символов. Глаза, близорукость, фотография, стеклянные обереги от сглаза, обман зрения, обманы чувств.
Невстречи, неприезды, неприлеты, дым и зеркала. Вам кажется, что вы могли бы встретиться, но нет, вы на разных тропинках, ведь вы в лабиринте, вам померещилось, даже если вы стоите рядом и смотрите в глаза друг другу. Или не в глаза, а сквозь. Туда, на море.
Тропинки расходятся не только на земле, но и во времени, настоящее путается с вечным: кто вон та женщина? Она правда живая или это миф, бессмертный миф, проступающий сквозь плоть? Ведь это Греция, и олимпийские боги не умерли, они просто истончились, слились с воздухом и волнами, они смотрят нам в затылок, они морщат зимнее море, они мерещатся нам в зеркалах.
Тропинки разбегаются и вновь переплетаются, так что каждый из трех рассказов трехслоен, и то, что сказалось в одном, отзовется в другом.
Умение строить эти тонкие и сложные конструкции я назвала бы мастерством недоговоренности.
Море за спиной
«Анна, знакомься — мой друг, друг детства, ну я рассказывал тебе, помнишь?»
Она не помнила, отец никогда не рассказывал о друзьях. Да разве это важно, когда «друг детства» так посмотрел на нее. Мама тоже так умела смотреть: вроде на тебя, а вроде и сквозь — на море, на горизонт, как будто не видит. И пока сидели в кафе на набережной, и она пыталась поймать его взгляд, эффектно отбрасывая челку, он упорно смотрел на море за ее спиной.
В Салониках друг детства пробыл недолго — Миопия. Методы контроля и коррекции — конференция, три дня. Накануне отъезда отец пригласил его к ним домой. Откинул крышку пианино: «Сыграй нам, Анна, только не “Болезнь куклы”, прошу тебя, ну или про куклу, только чуть веселей!» Про куклу? Получай! И она подчеркнуто бодро на форте начала, но перед тринадцатым тактом, где всегда будто холодом подмораживало пальцы, взяла долгую театральную паузу, отбросила челку, и отец засуетился, бросился всем подливать вина.
«Пижон столичный, подумаешь — офтальмолог, — брат кинул ей шлем, — поехали прокатимся!» И они покатили по ночному городу, вспороли его по Эгнатии* насквозь, и ее волосы, густые, темные, темно-рыжие — долой шлем — летели за ней стремительно, легко.
Друг детства уехал, вернулся в Афины, а она постриглась коротко. Очень коротко — наголо. Переходный возраст, обычная история, — объяснила психотерапевт.
Через три года он снова к ним приехал, на свадьбу брата. «Анна? Как на папу-то похожа!» Как заметил-то? Даже и не глянул толком. Он что-то говорил, о чем-то спрашивал, она не слушала — смотрела на его губы, на сонное июльское море в его глазах, пыталась поймать взгляд. Что она там несла в ответ? Вся эта раскованность — от страха все это, и без психотерапевта понятно. И чего бояться, взрослая уже, скоро двадцать — скоро, через два года. Вот мама — другое дело, и без пары бокалов могла подойти к нему близко-близко: «Ну как вам наша провинциальная жизнь, не скучно?» Но то — мама. А она? Что она несла, как в голову-то ей пришло такое. Хотите, я рожу вам девочку?Что он подумал о ней, интересно. Ну, старший брат женится — эмоции. Пара бокалов — много ли девчонке надо. И все это время, пока гостил в Салониках, упорно смотрел на море, на горизонт за ее спиной.
«Знаешь, все офтальмологи близорукие», — сказала ей мама на обратном пути. Они подбросили его в аэропорт, а когда возвращались домой, мама вдруг повернула не налево, к городу, а направо. «Поехали, кофе выпьем, пончики возьмем, посидим “У Маргариты”». Пончики были, конечно, с медом и корицей, обжигающие, как мама любила, и шарик мороженого сверху. Потом долго сидели в баре. Закатное солнце легло на привычный курс — туда, через теплый залив, к горизонту, где плыл в вечернем мареве Олимп. Солнечные блики играли в бокале золотистого хереса, в маминых глазах, а ее волосы то вспыхивали медью под лучами солнца, то гасли бронзой, если вдруг налетала стайка быстрых перистых облаков.
Потом, года два она звонила ему из баров и трубку вешала (а что сказать-то?). Зачем-то на филологический поступила (а куда еще?). Жила с одним парнем пару лет, потом влюбилась в другого. Все обычно. Закончила университет, потом ждала места «в солидном журнале», потом, как и все, перебивалась туристами: … Александр Великий… арка Галерия... Димитрий Солунский... нет, шубу не знаю, где купить…
А потом взяла и переехала в Афины (мне предложили интересную работу!) А он, по слухам, по-прежнему не женат, по-прежнему — офтальмолог, прием по записи. Записалась. Шла медленно — времени полно — через сквер, крошечный сквер, в три дерева. Навстречу бежал медно-кудрявый мальчик, бежал к ней, раскинув руки — его юная мама, швырнув сумку на землю, кричала что-то в телефон — бежал, смеялся. Может вернуться в Салоники, домой?
Пока ждала в приемной, проговаривала про себя: я ведь была в вас влюблена любила ну любовь ну это когда ребенка от мужчины хочешь я просто хочу чтобы вы знали даже не знаю чего хочу все по-дурацки вышло и папу мне жаль он всегда за меня волновался и психотерапевт ну почему же я не призналась вам тогда а у брата все хорошо а у меня уже два племянника а я такая дура была а хотите я вам рожу девочку но вы наверное меня не узнали…
Ждала, ждала и, чтобы успокоиться, мысленно переставляла мебель в приемной. Массивную, безликую офисную мебель. Ждала, ждала, в зеркало всматривалась на стене. Большое зеркало в золоченой раме. Долго всматривалась, и зеркальная поверхность дрогнула и поплыла. Будто бы они на Корфу катят на мотоцикле по шумной торговой улице и вот, чтобы срезать путь, прямо перед все понимающим улыбчивым батюшкой, перед изумленными туристами вкатываются тихо-тихо, заглушив мотор, в главный собор (Святой Спиридон улыбается им с иконы), пересекают его с севера на юг и выкатываются через противоположную дверь на безлюдную улочку. Она прижимается к его белой майке, и мотоцикл, радуясь дороге, ветру, взвивается под ногами и несет их к морю.
— Анна?
Модная легкая небритость уже не молодила, и глаза стали меньше, и смотрит иначе — не сквозь. Растерянно смотрит, близоруко. Сделала шаг навстречу.
— Узнали?
Он протянул руки, пахнущие мылом докторские руки:
— Анна! Сколько лет сколько зим, как папа, как брат? — Потом, после паузы: — Да, мама... знаю, да, горе какое, соболезную. Улетал на конференцию в Нью-Йорк — Миопия. Проблемы и решения — не смог на похороны, прости.
И пока он говорил, она смотрела на его отражение в зеркале, и ей казалось, что встреча их — в зеркале. Губы его шевелились, но она ничего не слышала. И вдруг как перещелкнуло — включился звук. — Ничего ведь не было, не было ничего серьезного. А мама твоя, ну скучно ей было. Или грустно. Актриса. Но жена друга — табу! Свадьба была у твоего брата, помнишь?
Он еще что-то говорил, говорил. Смешно вытягивал шею, жестикулировал как в старых фильмах и говорил, говорил. А потом взял ее за плечи: — Я сразу понял, почему ты пришла. Ты ведь увидела нас тогда, нет? Говорю тебе — не было ничего. — И ей показалось, что они вышли наконец из зеркала, вернулись.
И она вспомнила вдруг, как мама рассказывала ей про концерт Джейн Биркин (мам, а кто это?) в Афинах. Как Джейн, закончив выступление, подняла глаза к звездному греческому небу, к августовской «волчьей» Луне и тихо-тихо прошептала в микрофон: «Мерси, Серж». И как какой-то мужчина протянул Джейн после концерта цветы, а она неожиданно поцеловала ему руку.
— Это круто, понимаешь? Это жест свободной женщины, она может позволить себе все — быть собой. Любовь — это свобода, понимаешь? Свобода войти в любовь и выйти. — И мама смотрела ей прямо в глаза, не сквозь, как обычно.
А «друг детства» все держал ее за плечи и что-то говорил, говорил, и тогда она поцеловала ему руку. Он замолчал, замер. Вот как реагировать? Странная девчонка, всегда была странной.
— Зрение зашла проверить. Живу здесь рядом.
— Господи, Анна, прости ради бога, а я черт знает что подумал. Сейчас, сейчас. Как на маму-то похожа. Красавица. Замужем? Женщины, женщины. Кстати, она же близорукая была.
* Эгнатия — центральная улица в г. Салоники, дорога, которая вела из Рима в Константинополь.
Мой друг Христос
«Волны» накатывали, пульсировали в виске — настырный рингтон выбросил из сна, как ни барахталась, как ни сопротивлялась. Почему не заблокировала его, о чем думала? Думала — вот держит он сейчас свой мобильный с треснувшим экраном, еще пару гудков и даст отбой. Главное — выждать.
Нет. «Слушаю, Кристоф. Что? Эвридика? Ясно. Вы снова вместе? Летишь в Париж? Здорово, даже замечательно. Фобия, боишься дороги? Помню, разве такое забудешь. Фобия — это мягко сказано, но я ведь не доктор, верно? Эллин — человек, который всегда в пути, сам же говорил. Да, у нас зима, а что в Греции лето? Да, сплю. Да, голова. Да, ночь». А не надо было с Эвридики начинать!
Завтра поменяет тактику. «Самолет, дорога... мне страшно, понимаешь? Но мне надо лететь — мама одна, она ждет. Рождество. Я боюсь дороги. Нет, это не капризы, это болезнь. Мне больше некому звонить. Ты же мне друг?»
Друг?! Один раз кофе выпили. Занесла его нелегкая во Фракию из Парижа. Якобы коварная гречанка с поэтичным именем Эвридика сначала заманила, а потом бросила и пропала на полгода. А теперь вот объявилась: преследует, манипулирует, но его-то не проведешь, «все кончено!» И что, они снова вместе? Лучше в это не вникать. Греция, тихий городок у моря, сидел бы уж. Но фобия фобией, а Рождество — святое дело. В Париж, в Париж! Голос ему был.
До ночных звонков, всегда неожиданных, но ожидаемых (да, не заблокировала) была всего одна встреча. Во Фракию она приехала на пару дней с тяжелым Canon через плечо, снимала тогда лодки, камни, сети. И зачем во Фракию, спрашивается? Вся Греция — лодки, камни, сети. Но раз уж приехала, почему бы не выпить кофе с фейсбучным френдом, к тому же французом и поэтом.
Она шла в кафе «Кафка», ни о чем не беспокоясь. Что ее может разочаровать? Жалела только, что надела платье — не в театр же. Шла, перебирала четки: …кто поднял парус, тот бросил жребий…не толкай реку, она течет сама…жизнь хрупкая и проходит быстро…
Сколько всего накопилось в голове, а толку? Шла, как в булочную-кондитерскую, когда заранее знаешь: нет там любимой бугацы. А вдруг все-таки есть, как в Салониках, в кафе у башни — настоящая? Это же «Кафка», чем черт не шутит.
Он сидел у барной стойки в наброшенном на плечи серо-зеленом пальто а-ля френч. Сидел неустойчиво, боком, поглядывая «незаметно» на дверь. Мгновенно поднялся ей навстречу. «Шикарно выглядишь!» — француз. У него были ясные голубые глаза, они напомнили ей обереги от сглаза, сувениры из киоска напротив. Прозрачные яркие шарики точь-в-точь глаза варваров, людей с севера, у которых вместо языка морская галька во рту: вар-вар-вар.
Он пригласил ее к столику у окна: «Здесь спокойно, и море видно. Здесь я и написал свой роман». Ну да, мужчины начинают с себя.
Она кивнула и выложила пачку сигарет с устрашающей картинкой — пусть скажет, что здесь не курят. В ответ он смачно приложил об стол свою. На ее пачке был мрачный бледный импотент, на его — будто продырявленная гвоздями желтая нога. Они засмеялись.
«Курить нельзя, но я здесь свой. Я перепутал как-то и жахнул об стол телефоном». Показал ей треснувший экран, и она успела прочесть осколок смс: fuck you Christ… «Забавно. Мы в Греции, говорим по-французски, ты — московская гречанка, а я — греческий парижанин. Но в душе я — эллин, человек, который всегда в пути! Хочешь, зови меня ХрИстос, меня все так зовут».
Он попросил у официантки кофе, захотел еще чего-то, и через мягкое офранцуженное варь-варь-варь она вдруг отчетливо услышала архаику. «Я же — филолог, древнегреческий преподавал. Но одно дело Гомера читать, а другое — заказать к кофе что-нибудь сладенькое. Но, как видишь, я справляюсь!» В его теплых голубых глазах грелось на солнце мутное ноябрьское море.
«У вас есть бугаца?» — пришла она на помощь, просто чтобы сбить морок, попали уже под обаяние, знаем. И грозно нависшая официантка сразу ее невзлюбила, впрочем, она невзлюбила с первого взгляда, такое не скроешь. «Бугаца?! Это библио-кафе. Только книги и кофе», — протянула она сильным южным контральто, и если бы у матки был голос, он был бы таким. Ее черные густые локоны, кудри как у Медузы Горгоны, вдруг ожили, затанцевали. «Да нет же, здесь и сладкое есть, да и покрепче», — встревожился француз.
Официантка, не говоря ни слова, толкнув его бедром, ушла за стойку и застыла в неустойчивой позе танцора с амфоры. Она смотрела черными бездонными, как зеркало, глазами, не смущаясь и не позируя — греческая статуя, не знавшая еще, что она — экспонат.
У него чуть дрожали руки, неожиданно маленькие руки в веснушках — просто робкий юноша, пусть и давно за сорок. Кофе все не несли, и он сам подошел к стойке, взял чашки.
Она сделала глоток. В окне ровно дышало море. Зубчик, интервал, зубец, интервал — «вариант нормы», как на ее июльской кардиограмме. От него шла теплая волна: запах кофе, табака, моря и еще чего-то знакомого, близкого. Неуловимый зыбкий запах-полутон то накатывал, и она отдавалась волне, пытая память (что это, что?), то отступал, и она провалилась как в песок (нет, не вспомнить).
Говорят, когда что-то не можешь вспомнить, нужно назвать, дать имя. Пусть будет «Крит»— чем не название для мужских духов.
Из окна дуло, она потянулась к плащу на вешалке, но он тут же протянул ей свое пальто: «Возьми мое, тебе пойдет — к глазам».
— Спасибо, но… Надеть чужое пальто — примерить на себя чужую судьбу. Кто же это сказал…
— Я всегда, когда не помню, говорю: как сказал Гоголь! Поди проверь.
И он засмеялся с удовольствием, от души — будто по-русски. Они еще долго «крутили» тему Гоголя, смеялись, и чашки подпрыгивали на столе, и ей казалось, что даже бокалы позвякивают у барной стойки.
Что она узнала о нем за час? Мама — учительница, про отца не сказал. Париж. Филфак. Преподавал. Ученики. Стихи. Дальше интересно. Все бросил и поехал за любимой, за гречанкой по имени Эвридика. Потом любимая сбежала, что-то у них не сложилось (спасибо, обошелся без подробностей), а он так и остался во Фракии: «Я нашел свое место на земле!»
Ну, кое-что она о нем узнала, да. А вот о ней он узнал почти все, уж не подсыпала ли Горгона травки в чашку? Рассказала даже про арест деда в далеком тридцать девятом. В тихий московский дворик на улице Горького въехала черная-черная машина, из нее вышел черный-черный человек... — вещала она голосом трехлетнего папы. Он кивал — да, у России сложная история. Она говорила, говорила, а он машинально водил своей детской рукой, казалось записывал невидимой ручкой. Рассказала, как ездила к оракулу в Дельфы; ей там казалось будто бы она пчела, и парит высоко-высоко над кипарисами, а потом она уснула, и ей был сон…Официантка принесла еще кофе, хотя они, кажется, не заказывали.
Он уточнил, что Мира на самом деле никакая не официантка — филолог, просто кризис, что владелец кафе, по прозвищу Пастырь, помогает ему во всем, что по пятницам он собирает здесь учеников — поэтов и переводчиков. Официантка напряженно вслушивалась, пытаясь выхватить из потока французской речи знакомые слова; она поставила чашки и задержала левую руку, предлагая полюбоваться кольцом, мутно-голубым опалом на безымянном.
«Представляешь (он повысил голос и с удовольствием посмотрел на кольцо), Мира великолепно меня переводит, ну да, да — по подстрочнику. Да, я ей помогаю, конечно. Все бы хорошо, но Эвридика (он понизил голос и виновато улыбнулся официантке), с ней проблемы».
Официантка неспешно направилась к стойке, накручивая на палец змеиный завиток, и застыла на этот раз устойчиво и монументально как римская копия. Как очень красивая римская копия.
В окне пролетела стайка облаков, море задышало неровно, побежали барашки. На подоконнике статуэтка Ники — копия пленницы, что томится в Лувре — расправила крылья. И ей показалось: еще немного, и Ника взлетит к родному острову, к Самофракии, что таяла на уходящем горизонте. Живет себе француз. Пусть живет. Хорошо бы пройтись по берегу, проветрить голову, подышать морем, пока солнце не ушло. «Мне пора. Милое кафе».
Он спросил, сколько она еще пробудет в Греции, хотел еще что-то добавить, но она перебила, ответила, что — недолго, дня три; еще надо заехать в Салоники, и сразу домой — в Москву. Уже приготовилась встать, но он неожиданно накрыл ее руку своей: «У нее нет головы, — он кивнул на Нику, — ей легче, да?». Посмотрел ей прямо в глаза: «Верить — не главное. Просто жизни нужно довериться». В его глазах ворочалось потревоженное вечерним бризом море: «Прости, я что думаю, то и говорю. Может у меня русская душа? Мы ведь теперь друзья, да?»
Она отвела взгляд, посмотрела в окно. Смотрела, наверное, дольше, чем нужно. Он улыбнулся, кивнул в сторону моря: «Тут недалеко за пляжем, у старого маяка был вход в Аид, туда теперь туристов водят. Там Орфей и ждал свою Эвридику. А чуть выше, за акведуком, где речка, — там фракийки его и растерзали, а голову бросили в воду. Наверное, мойры* что-нибудь перепутали, ведь все случайно, нити путаются. И поплыла его голова мимо острова Самофракия к далекому острову Лесбос. Ну, ты это и без меня знаешь. Я тебе пришлю мой роман, он об этом. Про дорогу, ведь так легко разминуться — мы в лабиринте. И мы все кого-то ждем, ждем у входа в Аид».
— Ну, нет. Я бы лучше ждала у входа в Элизиум. Aux Champs-Elysées…* — напела она.
— Элизиум? Ок, я постараюсь!
Он взял ее руку: «На Рождество мне надо лететь к маме, она ждет, но мне был сон. У меня фобия, боязнь дороги. Это надо сказать, ты же все равно узнаешь. Я иногда мечтаю, будто самолеты не летают, поезда не ходят и вообще…тихо все. Меня уже все посылают с моими фобиями, блокируют. Пастырь, ну владелец кафе, он же на самом деле летчик, ну так вот, он мне советует...»
Так. Пастырь — летчик, официантка — переводчик... Пора. «Мне пора».
Он отпустил ее руку: «Знаешь, главное — не разминуться с собой. Тебе очень идет платье» — француз же. Он выпрямился, и она наконец смогла прочесть надпись на его черной майке: Don't follow me I'm lost tоo — белым по черному. «А у тебя веселая майка, тебе идет». И они засмеялись весело. Кажется, весело.
Она шла вдоль долгой эгейской волны к старому маяку на скале. Дошла, постояла немного, выкурила сигарету. Щурилась без очков, пытаясь разглядеть, где же он, вход в Аид.
«Й’асас», — раздалось за спиной. Она вздрогнула, обернулась на голос. Гладко зачесанные седые волосы собраны в высокий античный пучок. «Какое спокойное сегодня море», — пропела женщина. Да, почти пропела, как актриса в древнегреческой драме. Море вдруг и правда затихло, лишь чуть заметная зыбь вдалеке предрекала неясный, но достойный античности финал. Женщина улыбнулась, казалось, хотела что-то сказать, но попрощалась и неспешно пошла вдоль волны.
Вдруг захотелось ее окликнуть, удержать: «Простите, мне нужно в город, я правильно иду?» Женщина обернулась, театральным жестом указала на широкую полосу песка, гальки, на морскую пену, водоросли, на лодки, похожие на заснувших рыб: «О, не важно, все тропки ведут в город». Помедлила, будто хотела что-то добавить. Кивнула и пошла своей дорогой.
Что-то в ее фигуре было неустойчивое, несоразмерное. Может быть, надела чужое пальто? Кто она? Эвридика? Состарилась, пока его ждала. Медуза Горгона — официантка Мира через много-много лет? Постареет, никуда не денется. Кто она? Актриса?
Она шла к городу очень медленно, осторожно, будто это не берег моря, а «Сад расходящихся тропок»*, и как понять, какая из них твоя? Где он, твой «временной тоннель», и как не разминуться?
Она шла, близоруко вглядываясь в гальку. Думала: вот найду камешек с глазком, посмотрю сквозь него на солнце, загадаю желание, а потом брошу в море, и все сбудется. И уже у самого города нашла, наконец, гладкий миндалевидный черныш с круглым отверстием, будто зрачком. Что же загадать, любовь? Уже загадывала. Солнце уходило быстро. Что же загадать? Стремительно темнело. Она посмотрела туда, за горизонт, где только что утонуло солнце и протянула, растягивая гласные: Пусть эта женщина купит себе новое пальто. И добавила чуть слышно: если мойры не против.
Вернулась в Москву. Долго разбирала фотографии: лодки, камни, сети. Готовила выставку. Откладывала его роман. «Успеешь, вся жизнь впереди».
Часто созванивались. О чем говорили? О неважном. О греческих богах, например: не встретишь их больше в священных рощах; постарели боги, забыли про людей, дремлют себе на Олимпе, не докричаться до них. Он читал свои стихи по-гречески (варь-варь-варь). «Нет, нет, это не Мира переводила». Она не сказала ему, что в переводе все стало — то сладко так сладко, то солено так солено. Это Мира переводила.
С приближением Рождества она почувствовала неясное муторное беспокойство, будто море подернулось зыбью. Он рассказывал ей о белой лошади из кельтских мифов, что приходит за душой накануне смерти. Потом посыпались ссылки на «семь рецептов травяных настоек после неудавшегося самоубийства», клипы с машинами по встречной, фото-коллажи с чернокрылыми женщинами, выходящими из зеркал.
Она перестала ходить по ссылкам, лайкать. Он завибрировал: сообщения, потом звонки. «Ты меня игноришь? Я к тебе не клеюсь, вовсе нет. Я все понял. Но ты мне дорога, ты же мне друг. Ты ведь мне друг? Эвридика преследует, говорит, что любит, а Мира говорит, что Эвридика опасна, она просто хочет управлять мной, да и где она, эта Эвридика?»
— Мерси! Действительно, почему бы мне роль друга не сыграть. Хочешь совета, мон ами? Выбери Миру, не пропадешь!
Она не спешила открыть его роман, тянула, отмахивалась: что за бред, нормально у него все, прочту попозже, я так устала от него, вот успокоится все, потом и прочту. Потом нарядила елку и рядом с «уходящим» поросенком повесила разудалую «високосную» мышь, его подарок — вручил в последний момент: «Пусть новый год будет особенным!» Потом, потом. Потом ночные звонки: «…билет взял…Эвридика преследует…я не выдержу…ты мне друг…страшно…я совсем один…мне надо лететь…но я не выдержу…боюсь дороги…Эвридика говорит…Эвриди…»
— А ты не боишься гнева фракийских женщин? Эвридика, Эвридика. Тоже мне Орфей нашелся! Доиграешься — растерзают тебя фракийки, и поплывет твоя голова… Лети уже с богом, Кристоф.
«Пожелай мне Καλό παράδοση*». Он еще что-то добавил, но она не расслышала и не стала переспрашивать. «Καλό ταξίδι*, — сказала она и тихонько пропела, — мой друг Христос».
В ночь на Рождество она выпила бокал шампанского. Потом еще. И еще. Потом долго не могла заснуть. Потом заварила каких-то «успокоительных трав». Потом... потом зашла на его страничку и на развеселом снежном рождественском фоне прочла: je suis bipolaire et je vous aime tous* — черным по белому. «Земля тоже биполярна. С Рождеством, мон ами!» — зачем-то прокомментировала она.
След в след по пыльной дороге волокут меня. Привязана к колеснице. Кто же возничий? Вижу серое небо. Глаза открыты. Тела нет, не чувствую тела. Вижу глазами — склоняются люди, водорослями колышутся надо мною. Стоят вдоль дороги. Вдоль Эгнатии. Кто же возничий? Я вижу возничего, его спину. Я вижу глазами его кудри. Я вижу кудри Медузы Горгоны. Она вот-вот обернется. Нет, — кричу я, — нет! Но нет тела, и голоса нет. Только глаза. И я не умею их закрыть.
Она с трудом вынырнула из сна, из мутной серой волны. Пропущенный звонок (да, не заблокировала). Через занавеску пробивался фиолетовый зимний свет. Зажглась смс-ка: «жду на Елисейских, как договорились) Joyeux Noël*». Она помазала виски густым ароматным бальзамом, настойкой из горных трав Крита. Мощная теплая волна солнечного лета подхватила ее и вынесла в новый день.
* Мойры — в греч. мифологии три сестры, богини судьбы. По-гречески «мира» — судьба.
*«Сад расходящихся тропок» — рассказ Борхеса
* Счастливой дороги в рай (греч.)
* У меня биполярное расстройство, и я вас всех люблю (фр.)
Передать Анне
Фотография выскользнула из стопки бумаги, заботливо укутанной в новенький файл, и упала «лицом» вниз. И я забыла про нее. Бумага казалась еще теплой, пахла принтером. Вытащила наугад листок. Моего спящего французского хватило, чтобы осилить лишь одно предложение. Одно, но сложносочиненное и на полстраницы. Будто сначала идешь медленно, не спеша, потом все быстрее и быстрее, и вот — бежишь по залитой солнцем дороге, а потом — стоп — и ты уже бредешь по остывшему песчаному берегу в сторону дальнего маяка.
Рукопись, забытая в номере гостиницы. Что-то про мифы, про лабиринт, про дорогу. Сорок страниц без названия. Текст обрывался на союзе «и». Кончились чернила в принтере? Не так уж и важно — в конце обычно долго идут титры, титры, и больше ничего. Забегая вперед, — я не возьму ее с собой. Забуду здесь, в Салониках, в городе прошлого. Оставлю, где она и была. У зеркала.
Я всегда в пути. Дорога — ничего нет лучше. Voyages, voyages. Пишу тексты для одного дамского журнала. Когда-то я хотела стать фотографом, но случайно свернула не на ту тропку.
Пишу про духи, так уж вышло. Шеф дает мне полную свободу, но есть два правила: писать короткими предложениями и стараться, чтобы от текста «пощипывало в глазах». Ну и вставлять французские словечки для флера, но не больше двух на текст. Шеф прав — жизнь, в сущности, короткое предложение: начало и конец. А у кого не пощипывало в глазах? А уж флер — это наша профессия. Игра. Прогулка по лабиринту (на развилке — всегда налево), где не у всех есть призрачный шанс встретить себя. Писать — это как бросать кости, как играть с судьбой: перепутать нити, переплести их по настроению, а то и обрезать. Ведь все случайно.
Эту рукопись забыла женщина, и она курила — запах. Не разбираюсь в сигаретах, но если бы курила — выбрала бы эти. Свою рукопись не забудешь: текст не ее. Забыла или оставила. Любит пошуршать страницами, погреть их в руках, ведь распечатала же. Но вряд ли читала — девственно все, листок к листку. Спешила. Потом прочту, вся жизнь впереди. Но про ее будущее мне ничего не известно, я не оракул. Автор — мужчина. И к гадалке не ходи — запах. Запах текста.
Не знаю, был ли текст хорош, но от него шла волна, манящая и ускользающая одновременно. Как ночные облака на Крите. Это как духи. Повеяло — и вот уже ожила особая загадочная зона в памяти, но тропинки к ней неведомы.
Чем пахнет черный песок ливийского моря, горные травы в зной, изменчивое ночное небо? Чем пахнет Крит? Остров Зевса, его любовь, его слабость. Посмотрите направо: вон под тем платаном Зевс любил Европу. К ночи туристы рассеиваются, и на сцену выходят жители города: коренастые старухи в черном, усачи в сапогах из кожи белого быка, женщины, пахнущие молоком, с младенцами на руках. Выносят столики на улицу, ужинают: «черное» густое вино, маслины, гравьера, мелидзанес. Проходишь мимо, вдыхая запахи: Калиспера!* Отвечают вежливо, приглашают, а в глазах читаешь: Проходи с богом, чужестранка! Кто не родился на Крите — чужестранец. Спектакль закончен. Ночь. И где-то в море глубоко-глубоко спит Атлантида, и колышут волны ее звездный шлейф.
Крит — «тело» этих духов. Сильная нота, «тело» запаха, но чтобы ее услышать, надо подняться высоко-высоко, к ветру поближе. И дальше через грозные перевалы, не доверяя прострелянным указателям, по расходящимся горным тропкам пробираться на юг к холодному ливийскому морю. Горячий песок, волны, коварные течения, стоны критской лиры, что дурманят, навевают сон.
Но этого мало. Духи должны быть «сложносочиненными».
Я не забыла про фотографию. Вот она. Мужчина сидит за столиком в кафе где-нибудь в тихом городке на краю ойкумены*. Он смотрит прямо в объектив, прямо, но мимо. Чашка кофе в неожиданно маленькой, будто детской руке. Играет, позирует, хочет нравиться — смотрит «тем»взглядом, ну тем, особенным. Напротив — женщина. Она фотограф? (Потом она долго будет идти по берегу моря, долго, пока не стемнеет. Море было спокойным).
Она фотограф, и ей нравится держать «живую» карточку в руках, разглядывать ее при разном освещении, в разных ракурсах, ведь напечатала же. Подержит в руках и оставит у зеркала. Все мы кого-то ждем.
Он писатель? Пальто, наброшенное на плечи, ему великовато, и мужчина кажется потерянным. Чужестранец. Полка над столом, где прижимаются друг к другу книги, а в паузе — бутылка с золотистым вином. Простая рецина. Но что мешает добавить в эти духи каплю заморского вина, что мешает пойти по другой тропке? Пусть будет херес. Как в кино.
Может ли сцена из старого фильма обернуться запахом, остаться в памяти ароматом духов? Oui, если французская актриса-легенда протягивает через экран то ли приворотное зелье, то ли любовный напиток, то ли яд. «Попробуйте. Этот херес вам понравится!» Огни ночного города за окном, белые полупрозрачные занавески сигаретным дымом и «Вальс цветов» за кадром. Потом будут титры: дорога и беззащитные огоньки городов в сонном иллюминаторе.
В отеле она долго греет в руках его рукопись. Не решается открыть. Крепко спят боги, и нет им дела ни до героев, ни до простых смертных. Сможет ли его лира разбудить их? Услышат ли они? Она согрела эту историю в руках и оставила. Все мы чего-то ждем.
Что дальше? Дальняя дорога, приют теней или цветущий сад. Я не оракул. Знаю лишь, что в духах главное — шлейф. Аромат прощальный, аромат фантомный — призрак, но если нет его, то ничего и не было.
«Мужчина в кафе». Я храню эту фотографию, потому что на обороте — шлейф. Еле слышный. Напоминание самой себе. Твердым карандашом: Передать Анне.