
Денис Орлов: Тестируем эпоху






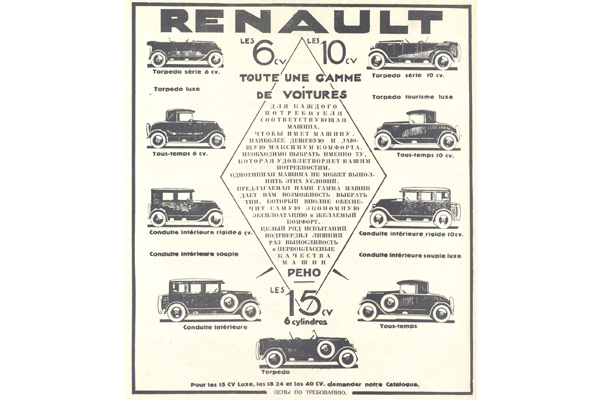








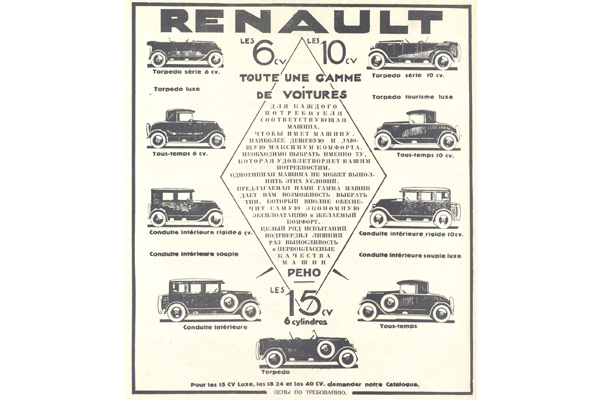

Водить старый автомобиль — словно на какое-то мгновение оказаться по другую сторону экрана в захватывающем приключенческом кино. Помните, как актеры в старых лентах изображают езду на машине? Постоянно крутят туда-сюда рулем и подпрыгивают, как на кочках. А пейзаж в заднем окошке почему-то все время убегает куда-то наискосок. «Боже, так никто не ездит в жизни!» А тут словно происходит комбинированная съемка наоборот. За окнами виды меняются строго в соответствии с перспективой и временем суток, но сам пребываешь в странной иллюзорной реальности. Звуки, запахи, тактильные ощущения, усилия — все другое, наигранное. Сколько же D у этого кино?
На современных дорогах старинный автомобиль выглядит абсолютнейшей нелепицей. Он не успевает за ритмами эпохи, ему всего требуется изряднее, чем современному: времени на разгон, дистанции для остановки. Управление историческим транспортным средством — это соизмерение возможностей и, конечно, терпение. Будто ухаживаешь за стариками. При этом никому в цивилизованном мире не взбредет в голову запретить ездить на них или обложить их драконовскими пошлинами. Это как запретить стариков. Развивая мысль, интерес к старой технике — высшее проявление любви к автомобилю.
И вот я сижу, подпрыгиваю и верчу рулем во все стороны, хотя и не актер. У Renault Vivastella выпуска 1933 года напрочь отсутствует то, что на языке профессионалов зовется обратной связью. То есть не чувствуешь пальцами, как круто повернул рулем, и не понимаешь по ощущениям, в каком направлении выставлены в данный момент колеса. И ехать приходится, да простят мне жаргонный оборот, «по глазам». Нет, это не дефект конструкции. В ту пору все машины были такие, даже гоночные. Управление «авто» или «мотором» — вспомним у Вертинского: «В пролеты улиц вас умчал авто…» — требовало глубоко поставленных навыков. А обслуживание? Это не зимнюю резину поменять! Зазоры в клапанах выстави, один раз в тысячу, а то и через пятьсот километров смажь все шарниры в шасси, не забудь зимой слить воду из радиатора, кузов протирай бережно ветошью, смоченной в особой полировочной воде, чтоб сиял. Потому и существовала профессия шофера, и была окружена она ореолом таинственности, и в дамских романах золотого века весьма распространена была фабула «госпожа влюбляется в наемного шофера».




Интересно, что из тех, кого нужда бросала по свету и вынуждала браться за любую работу, легче, чем другим, шоферство давалось русским. Скажем, индийские раджи, очень полюбившие автомобили в начале ХХ века, вынуждены были выписывать английских шоферов. Местные не имели представления, на какой скорости править, заходить в поворот, насколько заблаговременно тормозить. Да еще норовили хлестануть по капоту кнутом! А у русских чувство скорости в крови, недаром огромное число белых солдат и офицеров подалось после Гражданской в парижские таксисты. Мой хороший приятель, Костя Шляхтинский, недавно написал о них книжицу «Русские водители парижского такси».
Для многих них управление авто было поэзией. Скажем, уроженец Новохоперска Воронежской губернии, поручик из крестьян Тимофей Михайлович Кончаков оставил такие строки:
Втрое гнется будто комик,
Спит в машине наш полковник.
Спиртом пышет, как вулкан,
С «Ситроэна» капитан.
Шапку носит, как трубач,
Пьяный в доску бывший врач.
Кстати, ездили на тех машинах, точно так же, как я теперь, навалившись всем корпусом на руль. Поскольку руль огромен и заполняет собой все пространство кабины. Облокотишься на руль и поруливаешь не спеша этим conduite-intérieure, как именовались машины с закрытым кузовом во Франции. Прямо «Кондуит и Швамбрания»! Сидишь вертикально, подпертый спинкой переднего дивана, погрузившись полусферами в мягкость его шерстяного горизонта. Шикарный драповый салон — мечта моли. И топчешь педали — они не подвесные, как в современных авто, а напольные. Под полом кузова находится рама, и педали, пронизывая пол, закреплены прямо на ней. И такой, скажу, гопак на педалях вытанцовывается! Накладки уже малость подточены, сцепление схватывает на самом исходе. Самая сложная задача — тронуться с места. Пяткой правой ноги жмешь на газ, носком тычешь в кнопку стартера: ж-ж-ж-ыхх! Ух! Завелись. Теперь левой ногой выкинуть коленце. По первости огромный фырчащий чемодан еще дернется всем корпусом — и поедет! Двигатель у Vivastella — рядная «шестерка», невероятно эластичная. Перейдя на верхнюю (третью) ступень, о коробке передач можно вообще забыть… до поры, пока петляющая среди холмов дорога не начнет забирать вверх. На подъеме автомобиль захлебывается бессильным шестеренчатым воем. Чавк-чавк — на пониженную передачу переключаюсь тоже неспешно, совершая промежуточный выжим сцепления и делая перегазовку. (Техническая подробность: таким образом уравниваются скорости вращения валов в коробке передач, и переключение происходит без лязга.) Теперь голос шестерен зазвучал бодрее. С «ы-ы-ы» перешел на «у-у-у».
Вспомнились досаафовские грузовики ГАЗ-52. У них еще нижняя доска в борту всегда была выломана. Так делали, чтоб инструктор не подхалтуривал грузоперевозками. В руках ученика «газон» издавал столь же душераздирающие звуки.


А вот что действительно жутковато, так это тормозить на старом автомобиле. Возможно, в 1933 году ритм жизни в Париже был иной, но двухтонная машина с барабанными тормозами и вакуумным усилителем, кажется, вовсе не желает останавливаться. Давишь, а машина упорно ползет под уклон навстречу заднему бамперу ни о чем не подозревающего француза. И только когда буквально встаешь на педали, встает и машина. А однажды впереди тормозили резко, и я тоже — резко, и задние тормоза заблокировали свои, менее загруженные, колеса. И корма Vivastella предательски пошла юзом. Еще чуть-чуть, и не пришлось бы услышать от команды Renault Classic: «Спасибо, что сберегли наши машины!»
Примерно то же ощущали за рулем не только парижские, но и московские таксисты, когда в середине 1920-х по столице вдруг заюркали «сто двадцать маленьких черных, похожих на браунинги таксомоторов «рено»». И Лиля Брик, выклянчившая у Маяковского «реношку», «красавца серой масти». А также минеролог А. Е. Ферсман, отправившийся в 1929 году в экспедицию в Каракумы парой вездеходов Renault MN. Впрочем, ему было еще тяжелее, в песках, под прицелом басмачей коварного Джунаид-хана. В детстве я зачитывался «Путешествием за камнем»! Ох, богатая связывает история Renault с Россией! В 1918 году в Ленина Каплан стреляла подле Renault, отобранного у уже убитого к тому моменту Николая Второго. Только вот не убила…
До конца 1930-х годов персональный автомобиль был знаком особого достатка. И обращения с собой требовал соответствующего. А если кто и позволял себе легкомысленно к нему относиться, то это были по большей части люди богатые, соизмеряющие степень риска с величиной годового дохода. Автомобили нарекали именами собственными: «Всегда недовольная», «Мерседес»…
А потом с автомобилем случилась удивительная метаморфоза. Он вдруг стал доступен. После войны, после всех «фольксвагенов» с «виллисами», дистанция между автомобилем и покупателем укоротилась. Ореол недосягаемости рассеялся. И возникло ощущение… подъема, что ли. Вообще, энтузиазм — это движение тех, у кого за душой ни гроша. Даешь! Как носились монашки на Citroen 2CV в комедиях про жандарма. И вот выводишь автомобиль 1960-х годов на дорогу, и сердце наполняется предвкушением подвига. Примерно таким автомобиль оставался до недавнего времени — разухабистым, забубенным, ветрогонным. Как Париж у Эренбурга: «В веселье там легко и горько!»



Энтузиасты вроде Амедэ Гордини или Жана Редле на последние гроши покупали агрегаты серийных машин, чего-то там в них перетачивали и переставляли, в итоге выводя на гонки и предлагая простым покупателям нечто особенное. Alpine A110, например! Небесно-голубого цвета (как и положено французскому спортивному автомобилю) миниатюрная машинка. Надо быть очень большим энтузиастом, чтобы дважды, в 1971 и 1973 годах, занять на таких же машинах весь подиум на ралли Монте-Карло. Да и просто чтобы управлять «альпином», надо быть энтузиастом. В тесной стеклопластиковой скорлупке человек сколь-нибудь современной акселерации ощущает себя распоркой между крышей и педалями. И вроде бы совсем немного времени прошло — в руках у меня образец 1976 года. Давишь на педали — выдавливаешь наружу потолок. Выворачиваешь шею — рискуешь плечом высадить боковое стекло. Ноги кое-как пристроены: колени охватили руль, левая ступня на весу: в этом автомобиле нет площадки для отдыха левой ноги! К тому же сидеть приходится слегка наискосок: педальный узел вместе с рулевой колонкой сильно смещены вправо. (Еще одна техническая подробность: такое смещение является компоновочной особенностью большинства автомобилей с задним расположением силового агрегата.) А завод Alpine в Дьеппе выпускал исключительно такие, заднемоторные спортивные автомобили. Их иногда даже называли французскими Porsche. Сравнение напрашивается само собой. Но ни у 911-го, ни у его предшественника 356-го — на этих машинах однажды мне тоже довелось прокатиться — проблема эргономики не проявлялась столь глубоко. В них просто садился и ехал. А здесь… Словно новые ботинки надел и натираешь мозоли. Расплачиваешься за гармоничность линий.
И все же Alpine — светлая страничка в истории французского автомобиля. Причем она, вероятно, вскоре будет открыта вновь. Эти машины любили именно потому, что все они были особенными. Потому что «езжу на Alpine» в устах патлатого молодого человека начала 1970-х значило гораздо больше, чем «езжу на Renault». Или Peugeot. Или Citroёn. С таким молодым человеком девушке хотелось рая в его крохотном пластмассовом шалаше.
Хотя на таком автомобиле был велик и шанс вылететь на обочину. Самые тяжелые части, двигатель с коробкой, перемещены в багажник, поэтому передние колеса здесь не так сильно нагружены. Из-за такого необычного распределения масс автомобиль уподобляется флюгеру. Зато Alpine всегда обходились без усилителя рулевого механизма. Нет его и одной из последних моделей, 610GTA Le Mans выпуска 1993 года. Вскоре завод обанкротился. Казалось, всего ничего минуло. Однако после современных автомобилей с их ожидаемо-усредненно-безопасной управляемостью здесь буквально захлестывает изобилие оттенков характера. Как и другие заднемоторные машины, эта норовит поживее вписаться в поворот, поэтому требует деликатного обращения с рулем. Зато на руль передаются малейшие оттенки пилотирования. И кажется, что управлять «альпином» можно не глядючи. А сколько оптимизма дарит нажатие педали газа! В какой-то момент оживает турбонаддув, и салон наполняется характерным свистом, будто где-то неподалеку на аэродроме гоняют двигатели реактивного авиалайнера. Словно второе дыхание открывается у машины: быстрее, еще быстрее! Обеспечив спурт, турбина отключается с громким удовлетворенным вздохом. Стрелка на экранчике с надписью turbo отошла на исходную. Перед водителем раскинулось царство подобных крошечных дисплейчиков и крупных клавиш. Эстетика космического корабля из «Одиссеи-2000». Клавиши продавливается со значением, с таким полновесным, округлым щелканьем — я же пилот, не еду, а пилотирую?



Старые автомобили позволяют оценить меру прогресса. Достаточно пару раз попытаться воткнуть передачу в самом первом автомобиле Луи Рено, образца 1898 года, чтобы затосковать — даже не по автомату, а по обычной механической коробке. Процесс «делания лучше» бесповоротен и неотвратим. Почему, однако, так часто выходит хуже? В чем секрет притягательности старых вещей? Наверное, это порочно — испытывать пиетет перед вещами. В советское время существовало даже такое клеймо в характеристике: вещизм. Нет, не маниакальное желание купить миллион сумочек, два миллиона туфель и десять метров галстуков (вспомним Задорнова). Другое. Особая, необъяснимая теплота, исходящая от этих предметов, будь то старое кресло, бабушкина швейная машинка или антикварный автомобиль. Ни один модерновый iPhone, за которым отстаиваются многотысячные очереди, не обладает подобной притягательностью. В этом драма современного общества потребления. Усилия, приложенные нашим современником, чтобы обладать, не находят равновесного отзвука в предмете обладания. В его руках оказывается всего лишь растиражированная высокотехнологичная штуковина, собранная где-то какими-то китайцами с лица неясным выражением. Такой предмет напрочь отбивает желание его ценить, поскольку в нем нет авторства, он лишен личностного начала. Метафизика? Не хватало еще привести в пример говорящую чернильницу из сказок Андерсена. Почему тогда после вождения старых автомобилей сердце наполняется светлой грустью, необъяснимым волнением, как после редкой встречи с родителями? Нельзя запретить стариков.