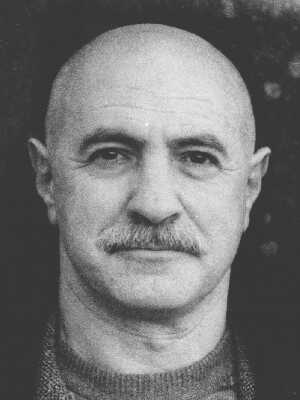Вышедшая в 2020 году в Питере книга Наума Ваймана о Мандельштаме - страстный, умный, затягивающий текст, он заставляет возвращаться к себе, перечитывать, спорить и размышлять. Книга заслуживает особого внимания ценителей словесности, а среди них как знатоков и исследователей поэзии Мандельштама, так и просто серьезных любителей поэзии. Замечательна эта книга, кроме драматического стиля еще и философским, точнее философско-культурологическим акцентом с элементами убедительных, хотя и не всегда бесспорных естественнонаучных ассоциаций. Мы встретим здесь отнюдь не всуе упомянутые автором имена Платона, Аристотеля, Августина, Чаадаева, Бергсона, Шпенглера, Шестова, Флоренского, Лосева, Хайдеггера, Г. Кантора, Эйнштейна, Бубера, Леви-Стросса, И. Пригожина.
Главное, однако, в этой, подводящей собственные мандельштамоведческие итоги, работе Ваймана - экзистенциальная вовлеченность писателя в творчество, судьбу, слово, жизнь и смерть поэта. Автор пытается быть объективным и даже безжалостным аналитиком как текстов Мандельштама, так и связанных между собой его биографии, психологии и нравственного выбора. В целом это удается и этим книга Ваймана впечатляет. Но меня будет интересовать в данном очерке то, где Вайман терпит, на мой взгляд, неудачи в попытках анализа философских оснований поэтики Мандельштама. Неудачи эти не в том, что основания неверно обозначены, скорее напротив, а в том, что Вайману не всегда удается выдержать исследовательскую дистанцию между собственными философско-культурологическими предпочтениями и таковыми у Мандельштама. С другой стороны, именно поэтому книга увлекает, она оказывается не только свидетельством философских и этических миров поэта, но и картиной экзистенциальных вопросов и забот автора.
Стоит попытаться разобраться в структуре работы, так как она имеет непосредственное отношение к смыслам текста и их пересечениям. Интересен вступительный раздел книги. Он состоит из небольшого эпиграфа (я приведу его полностью) и развернутой «увертюры» (именно так обозначено у автора) под ключевым для общей идеологии автора заголовком: «Поэзия и зов крови».
Авторский эпиграф, данный изолированно на отдельной странице непосредственно перед этим программным предисловием, настолько выразителен, что его стоит привести целиком:
«Мандельштам долго затягивал меня в воронку своего черного солнца. Постепенно чтение стало общением, а мучительные попытки разобраться в его «шифрах» и фигурах полета превратились в нескончаемое путешествие-приключение по сводам и лабиринтам русской и мировой культуры, куда он брал меня на прогулки, погружения, объяснения и беседы. Он вспахивал передо мной время, а я шел за ним, как любопытный мальчишка за пахарем, разглядывая открывающиеся пласты. Пока окончательно не подсел на эту иглу безутешных песен».
Здесь важно обратить внимание на ключевые слова: «затягивание в воронку», «черное солнце», «шифры», «фигуры полета», «нескончаемость путешествий и приключений», «лабиринты», «прогулки», «погружения», «вспахивание пластов времени», «игла безутешных песен». Все это, на самом деле, важные элементы психологического и технического самоописания и автопортрета Н. Ваймана. Затем, как было уже сказано, идет авторское предисловие («вроде увертюры»). Это вступление тянет на небольшой философско-теоретический трактат на тему расы, крови, вопросов культурно-национальной принадлежности не только Мандельштама, но и поэзии как таковой, вообще творчества и человека. Это та явная, открыто провозглашаемая идеологическая рамка и, одновременно, метод анализа, который будет применяться Вайманом на протяжении всего исследования.
После «увертюры» идут пять основных частей этой «оперы» (напомним, что итальянское слово «opera» — значит «работа», «произведение»), или «симфонии», построенной со скрытой музыкальной симметрией: 2+1+2:
{1. Покорители морей. 2. Отравленный хлеб;}
[3. Я покину край гипербореев;]
{4 Стихи о русской поэзии; 5 Исход.}
Часть (глава) третья посвящена мандельштамовой «Канцоне» и по своему масштабу, как чисто количественно, так и по смыслу, является архитектурным центром всего текста. Главы «Покорители морей» и «Исход» образуют структурную и семантическую арку, оформляющую все конструкцию. Однако автор на этом не останавливается, и, следуя заветам Мандельштама, нарушает «языческую» пространственную симметрию и в Дополнениях дает еще несколько смещающих пропорции сильных кульминаций смыслов: «Тень Мандельштама» (о В. Парнахе - М.А.), «Ассириец держит мое сердце» (о фаустовском «романе» поэта со Сталиным – М.А.), «Послание к евреям» (о стихотворении «Где ночь бросает якоря» - М.А.), и, наконец, миниатюрная кода «Иудея и Русь» (о мандельштамовом принятии на себя российских бедствий, об его попытке иудео-христианско-православного «синтеза»).
При этом главной темой, основным лейтмотивом книги остаются напряженные экзистенциальные взаимоотношения поэта с еврейской культурой («хаос иудейский»), со своей иудейской «кровью». Эти взаимоотношения даны Вайманом в контексте внутреннего диалога с культурой античной и западноевропейской, а также, и прежде всего, с «буддийской» культурой России, трагический диалог, приведший поэта, в конце концов, на сибирскую Голгофу и в мерзлую яму на Второй речке.
Теперь, когда архитектура и драматический план книги более или менее очерчен, я бы хотел, как комментатор, совершить избранное путешествие по тексту. Тут будут заметки на полях (по «одесской» шуточной версии Ваймана - «ноты Бене»), критические замечания, рассуждения на общие для нас с автором темы. Сначала дается фрагмент текста книги, потом мой комментарий.
С.6 Текст Н. Ваймана: «В письме Надежде Яковлевне от 17 февраля 1926 года Мандельштам пишет о своей встрече с востоковедом Владимиром Шилейко (ровесник Мандельштама, семитолог, хорошо знавший древнееврейский, специалист по Шумеру и Ассирии (перевел «Эпос о Гильгамеше»), второй муж Ахматовой)».
МА: В. Шилейко заслуживает большего:
"…поэт, в 1910-е годы входивший в тесный дружеский кружок вместе с Н. Гумилевым, М. Лозинским, А. Ахматовой, О. Мандельштамом. В 1979 году его поэтика стала предметом фундаментального исследования В.Н. Топорова, охарактеризовавшего Шилейко (наряду с В. А. Комаровским) как "значительного и весьма оригинального" поэта, имевшего влияние на поэтов своего круга: Ахматова и Мандельштам "заметили стихи Шилейко и усвоили себе их уроки" Шилейко был причастен к центральным событиям литературной жизни Петербурга зимы 1913-1914 года - диспутам футуристов. Он оппонировал В. Шкловскому после его доклада "О новом слове" 23 декабря 1913 года: "Шилейко взял слово и, что называется, отчестил, отдубасил, как палицей, молодого оратора…Самые ранние датированные стихи В. К. Шилейко помечены 1913 годом. Его поэтический дебют состоялся весной 1914 года на страницах редактировавшегося Н. Гумилевым, С. Городецкими и М. Лозинским журнала "Гиперборей" (№9-10, с выходными данными "ноябрь-декабрь 1913"), два из трех стихотворений Шилейко, в нем помещенных, написаны в январе 1914 года. Не позднее весны 1914-го сложился тот дружеский союз, о котором писала Ахматова: "Тогда же, т. е. в 10-х годах, составился некий триумвират: Лозинский, Гумилев и Шилейко(…) Оба, Лозинский и Гумилев, свято верили в гениальность третьего (Шилея)... Это они (да простит им Господь) внушили мне, что равного ему нет на свете". Публикация в "Аполлоне" (1914. № 6-7), осуществленная, несомненно, при поддержке Лозинского и Гумилева, поставила Шилейко в ряд состоявшихся поэтов. Вторая половина 1914 года и начало следующего были у него временем творческого подъема. В майском номере журнала "Вершины" (1915. № 25) Гумилев поместил посвященное Шилейко стихотворение "Ни шороха полночных далей...". (А. Мец, И. Кравцова Предисловие к книге В. Шилейко Пометки на полях. Стихи. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 1999, сс. 3-47)
Текст Н. Ваймана, стр.7:
Дмитрий Владимирович Фролов, специалист по семитским языкам и арабской поэтике, пишет в книге «О ранних стихах Мандельштама»: "...родовой корень …нельзя не учитывать при анализе творчества поэта. При всем космизме культурного пространства мандельштамовской поэзии ее творец никогда не был и не мыслил себя «человеком без рода, без племени», космополитом".
МА: Не могу не обратить внимание на специфичность понятия «космополит» в контексте сталинской эпохи. «Безродными космополитами», как известно, партийные документы называли евреев в период «дела врачей» перед самой смертью «отца народов» в 1953г. Поэтому комментарий Д. Фролова и солидарность с ним автора выглядит несколько двусмысленно.
Текст Н. Ваймана, стр.8-9:
Все те же проблемы крови и почвы… В наше время, после геноцидов и мировых войн, многие шарахаются от слова «кровь», даже если это метафора... Но для деятеля культуры на рубеже 19-го– 20-го веков и слово было вполне законным, и сам вопрос о национальных корнях культуры – актуальным. Так же как и поныне актуален вопрос взаимосвязи языка и мышления. Не чурались при этом и слова «раса», означавшего «органическое начало» народа, его «естественную природу». И в самом деле, разве этнос не рождается с языком, то есть с поэзией, и разве она не растет в гуще народа, питаясь, как дитя в утробе, его материнской «кровью», а потому и с «характером» народа навеки и неразрывно связана.
МА: Здесь впервые автор допускает, на мой взгляд, методологическую некорректность, о которой я упоминал выше: с одной стороны вполне резонно обращает внимание на смысловой, философский и культурный фон Серебряного века, что необходимо для понимания текстов как самого Мандельштама, так и его эпохи. (На эти темы впечатляюще писал, например, А. Эткинд в своих монументальных эссе «Эрос невозможного» и «Содом и Психея».) Одновременно, автор выражает свою мировоззренческую позицию, свое личное кредо («кровь и почва»), которое оказывается, с одной стороны, запоздавшим фрагментом самого этого культурного фона начала ХХ века, с другой, неожиданно становится исследовательской оптикой автора, его инструментом анализа. Это ставит под сомнение необходимую для исследователя пусть неизбежно относительную, но все же желаемую объективность.
Зададим вопросы автору: разве смысл используемых им понятий и утверждений сам собой разумеется, очевиден? Что имеется в виду под термином «этнос»? Что такое «народ»? Что такое его, народа, «гуща»? Действительно ли язык и поэзия синонимы? «Материнская утроба» и «почва», «кровь» - это строгие понятия, или метафоры? Если понятия, хотелось бы хоть каких-то определений, если метафоры, тогда мы читаем поэму в прозе Ваймана о поэзии Мандельштама. Если так, то это не исследование и не философское эссе, так как последние два жанра предполагают направленную на собственную понятийную оптику критическую рефлексию, даже если речь об авторском варианте «философии жизни». Не выглядит ли это как использование, пусть любовное, поэта Мандельштама для декларирования своих убеждений?
Текст Н. Ваймана стр.10:
Досталось от Канта и евреям (но в других текстах): они не вдохновляются и не стремятся к гражданской добродетели и дух ростовщичества владеющий ими делает их нацией мошенников, наживающихся на обмане и эксплуатации народов которые их приютили... Презабавнейший текст, сразу видно, что великий философ.
МА: Источник этого антисемитского высказывания Канта не указан. В сети эта цитата распространяется тоже без указания источника. В любом случае источник, хотя бы сетевой, мягко говоря, желателен.
Текст Н. Ваймана, стр.11:
Освальд Шпенглер считает культуры организмами, то есть связанными кровными узами…
МА: Шпенглер отнюдь не считал культурные организмы «связанными кровными узами», совсем напротив, он утверждал принципиальную отдельность, замкнутость, взаимную непрозрачность, параллельность различных культур, как совершенно различных «растений-организмов»:
«Я надеюсь доказать, что все без исключения великие творения и формы религии, искусства, политики, общественной жизни, хозяйства и науки возникают, завершаются и угасают во всех культурах одновременно. (…) Все понятия (…), образы, извлекаются из бесконечного множества мировых возможностей во имя отдельной культуры. Ни один из них не является вполне понятным для познавательной способности другой культуры. (…) Есть много, по существу, совершенно отличных друг от друга скульптур, живописей, математик, физик, из которых каждая имеет свою ограниченную продолжительность жизни, замкнута в себе (…)»
Стоит обратить внимание на важное обстоятельство, имеющее отношение к пониманию исследовательской позиции Наума Ваймана. Приведенные выше вдохновенные положения Шпенглера о замкнутости культур, несомненно, ошибочны, если их мерить мерками самого Шпенглера, то есть самопротиворечивы. Они противоречат позиции Шпенглера как автора «Заката Европы». Если бы культуры, согласно Шпенглеру, были действительно замкнуты и не прозрачны друг для друга, каким образом сам Шпенглер смог бы с такой яркостью и талантом понять и развернуть морфологию истории человечества и каждой из замкнутых культур? Шпенглер-автор занял здесь, что вполне резонно, позицию «над схваткой», позицию внешнего наблюдателя, чуть ли не «позицию бога». Однако по собственной декларируемой логике замкнутости он должен подпадать под свою собственную классификацию как представитель всего лишь одной из культур и не видеть и не чувствовать других. Но тогда Шпенглер не смог бы написать свою книгу, ведь она есть ни что иное, как «взгляд сверху» как на собственную «замкнутую» культуру, так и на всю мировую историю.
Из этого следует вывод: для того, чтобы иметь возможность обобщения такого рода, совершает ли их Освальд Шпенглер, Наум Вайман, или Осип Мандельштам, так или иначе придется занять ту самую позицию внешнего наблюдателя, которую и демонстрируют перечисленные авторы. Здесь неизбежен уровень дополнительной рефлексии, не укорененной в локальной «почве» и «крови». Иначе технически невозможны никакие общие суждения ни о собственной культуре, ни о других культурах. Откуда же берется эта позиция внешнего наблюдателя, если все укоренено в почве и крови отдельных непроницаемых культур-организмов? С неба? В некотором смысле именно так. Честность исследователя заключается в том, чтобы отдавать себе отчет в наличии этой внешней «беспочвенной» рефлексивной позиции мыслителя, а не скрывать от себя и не убеждать читателя в собственной якобы неизбежной «почвенности». Тут вынужденная ситуация «или-или», третьего, при всем желании, не дано, и на этом противоречии всегда и логически, и практически подскальзывались все «почвенные», но при этом почему-то претендующие на обобщения идеологии.
Текст Н. Ваймана, стр.11-12:
Пусть доктринеры наклеивают какие угодно идеологические ярлыки, – кровь это живая, реальная связь тела и духа в человеке, человека и его народа. Особенно в том случае, когда эта связь скреплена общей судьбой. Может ли поэт в своем творчестве «отключить» эту связь?
МА: Пассаж относительно «доктринеров» и «идеологических ярлыков» довольно характерен. Это пример проекции: кто же именно здесь доктринер? Автор вполне “доктринерски” декларирует свою теорию (доктрину) «крови и почвы». При этом, не указывает ни критиков-доктринеров, ни их аргументы, но зато называет потенциальную критику своей концепции “доктринерством». Подчеркну, автор имеет право исповедовать любую доктрину, но вряд ли корректно использовать ее по-умолчанию как инструмент анализа, если он претендует на некоторую филологическую и семантическую объективность.
Что касается идеи прямой связи между «кровным родством», с одной стороны, и культурой вместе с языком и поэзией с другой, идея эта весьма спорна как с биологической, так и с культурно-исторической точки зрения, и это объективно так, без всякого доктринерства. То, что некоторые особенности человеческой психики и тела передаются из поколения в поколение генетически (кстати, генетическая передача все же совсем не то же самое, что «кровная») – это несомненно. Человек не является «чистым листом», на котором можно печатать все, что угодно, о чем убедительно писал не так давно Стивен Пинкер в своем интеллектуальном бестселлере «Чистый лист». Но любой конкретный язык, как и напрямую связанная с данным языком поэзия, передаются только через языковую, социальную, коммуникативную среду, через «культурные эстафеты», а не через «кровь» или гены. Любой здоровый ребенок любого генетического происхождения и кровного родства, попав до определенного возраста в некоторую, пусть даже случайную коммуникативную культурную среду, овладеет любым из тысяч языков мира как родным, и, при желании и даровании, может стать «почвенным» поэтом на этом своем случайном родном языке.
Здесь понадобится небольшое теоретическое отступление. Для дальнейшего разговора необходимо уточнить понятие культуры. Слово «культура» в мировой литературе дается как минимум в двух основных смыслах. А именно:
1. Культура локальная, то есть отличная от других человеческих культур совокупность практик той или иной социальной группы, племени, народа, сообщества, государства.
2. Культура как специфическая видовая деятельность человека (сапиенса), принципиально отличающая его как вид от остальной живой природы, биосферы, от чисто инстинктивного, то есть лишенного языка и рефлексии (сознания) животного поведения. Культура в последнем смысле когда-то весьма точно называлось «второй природой».
Изложу свою точку зрения на проблему. Культура есть деятельность сапиенса как вида, и она связана с особенностью, которую метафорически можно назвать «второй производной». Речь идет о видовой человеческой способности не просто создавать орудия, но создавать орудия для создания орудий, не просто передавать информацию через сигналы, а передавать сигналы о сигналах, информацию об информации. Более того, человеческие желания (любые, как «плотские», так и «духовные») связаны с тем же удвоением, и могут характеризоваться как «желания желаний». Человеческое универсальное стремление к признанию и к любви это желание чужого желания, «вторая производная» желания, что не только имеет мало общего с подчиненными выживанию и размножению инстинктивными «одноуровневыми» естественными желаниями животных, но в некотором существенном смысле отрицает их, противоположно им. Это свойство культуры и естественного языка быть своим собственным метаязыком, наличие рефлексивности и самосознания, и потому о--сознания и называния фундаментальной противоположности жизни и смерти (осознание/называние этой экзистенциальной дихотомии не наблюдается в животном мире) есть специфика всех человеческих языков и культур без исключения, принадлежит к языковым и человеческим универсалиям.
В этом смысле можно говорить о феномене человеческого языка/сознания вообще, а не только об отдельных языках и сознаниях, аналогично второму значению понятия «культура». Язык человека (любой) устроен так, что: а) обладает фонологической структурой, то есть использует различительные признаки и фонемы, которые сами по себе лишены какого-бы то ни было смысла, кроме функции различения и при этом формируют смысл на «втором этаже» - значащие морфемы (так называемое «двойное членение»), и б) обладает рекурсивной, самореферентной способностью порождать речь о речи, высказывания о высказывании («двойное членение» второго уровня). Миф и ритуал в человеческой культуре в целом выполняют функцию инструментов гармонизации, наркотического «лечения», «анестезии», «забвения» переживаемой и осознаваемой человеком пугающей диссонантной противоположности жизни/смерти. Тревожит не столько сама смерть, сколько осознание ее противопоставления жизни. Бессознательная первичная дуальность, различие ощущений «естественна» и является общей для всего живого. Пугает сапиенса испокон века только вторичная, то есть осознаваемая дуальность.
Этот небольшой экскурс в теорию культуры и лингвистику связан со всеми темами, обсуждемыми в тексте Н. Ваймана. Мандельштам, кстати, был не чужд всем этим проблемам, недаром он был современником таких великих этнографов и культурологов как Л. Леви-Брюль, чуть позже К. Леви-Стросс, и лингвистов, таких как Р. Якобсон и Н. Трубецкой.
Текст Н.Ваймана, стр.12-13:
Майя Каганская в своей пионерской работе «Осип Мандельштам – поэт иудейский» отчеканила: «Мандельштам всегда писал на языке своего духа, своей крови». Очень похожие рассуждения я обнаружил недавно у самого, можно сказать, "либерального" еврейского философа – Мартина Бубера. В небольшой брошюре "Обновление еврейства" (по-русски вышла в 1919 году) он пишет, что когда человек находит себя в цепи поколений, он видит перед собой ряд отцов и матерей, приведших к нему, и сознает, сколько людей должны были сочетаться, сколько крови слиться в один поток, чтобы он мог жить, какой звездный хоровод зачатий и рождений вызвал его к бытию. Он ощущает в этом бессмертии поколений общность крови и ощущает его, как прежнюю жизнь своего я, как пребывание своего я в бесконечном прошлом. К этому присоединяется, под влиянием этого чувства, открытие, что кровь есть корневая, питающая стихия в индивидууме, что глубочайшие пласты нашего существа определяются кровью, что ею окрашены тончайшие фибры нашей мысли и нашей воли.
В этом высказывании нет ничего удивительного: все-таки Бубер был верующим иудеем, а в иудаизме кровь – это душа. Сие трижды повторяется в Ветхом завете, в книге Бытия (9:4): «плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте»; во Второзаконии (12:23): «Строго соблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом»; и в книге Левит, где утверждается: «душа тела в крови» и «душа всякого тела есть кровь его» (Лев. 17:10–14).
Для Мандельштама «кровь» рождает культуру: «пенье – кипение крови», кровь – «строительница», она клей времен.
МА: Что мы на самом деле обнаруживаем в этом рассуждении? Перечисление, несомненно, важнейших для Мандельштама поэтических метафор, или некие «истинные» научные утверждения? Или, может быть, ветхозаветные религиозные истины? Или философско-культурологические утверждения Бубера, парадоксально окрашенные характерным для эпохи тем самым псевдонаучным биологизмом, который так привлекал интеллектуалов всех национальностей и привел Европу к «окончательному решению» и газовым камерам? Здесь смешивается в трудно различимую амальгаму художественный мир Мандельштама и Серебряного века, личное философское кредо Ваймана и изнутри противоречащий всему этому, претендующий на некую объективность метод филологического описания.
Текст Н. Ваймана, стр.13:
Для Мандельштама «кровь» рождает культуру: «пенье – кипение крови», кровь – «строительница», она клей времен.
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.
(1922)
МА: Давайте попытаемся понять, о чем у Мандельштама идет речь. «Кровь-строительница» как «клей» рукой поэта в первой строфе поставлена под знак вопроса. «Кто сумеет?». Вопрос Мандельштама о позвонках хребта столетий риторичен. Подразумевается: никто. Это прямая отсылка к гамлетовскому "The time is out of joint;" [I.V.211-2]), В трех разных русских переводах: Век вывихнут. Век расшатался. Распалась связь времен... Во второй строфе кровь хлещет горлом из земных вещей, то есть используется символ чахотки, распространенной в первой трети ХХ века смертельной болезни, и это уже дано без всяких вопросов. Ничего себе строительный клей… Кровь строит, в чахотке уничтожая и само время, и его вещи.
Текст Н. Ваймана, стр.16:
…в эпоху раннего, «темного» Средневековья Европа была хаотичной, животворной, «физиологичной», жила верой и страстями, и в этом смысле далеко ушла от античных образцов. В архитектуре царила готическая стихия. Готический собор похож на взрыв, на извержение жизненной силы (…)
МА: Опять спросим: что это? Описание представлений Мандельштама о Средневековье? Допустим, хотя и нуждается в уточнениях. Но Наум Вайман дает этот текст от себя, как нечто общепризнанное. Средневековье действительно постоянно обнаруживало «языческое» буйство, например в массовых апокалиптических психозах, в неуправляемой «карнавальной» стихии, вспоминая Бахтина. Но причем здесь готика? Что ж, заглянем в профессиональные исследования по готике, например, в книгу современника Мандельштама Эрвина Панофского «Готическая архитектура и схоластика» (работа над ней шла в 20-40х годах):
«Ранняя схоластика родилась в то же время и в той же среде, в которой зарождалась ранняя готическая архитектура, воплотившаяся в церкви Сен-Дени Аббата Сюжера. (…) одухотворенность, отличающая фигурные изображения ранней готики на западном фасаде Шартрского собора от их романских предшественников, отражает возобновление интереса к психологии, который пребывал в спячке в течение нескольких столетий, но эта психология была все еще основана на библейской (и августиновской) дихотомии — быть между «дыханием жизни» и «прахом земли». (…) статуи высокой готики соборов Реймса и Амьена, Страсбурга и Наумбурга и более естественные (хотя и без всякого пока натурализма) изображения флоры и фауны в орнаментах высокой готики знаменуют собой победу аристотелианства (курсив здесь и далее мой МА). Маловероятно, чтобы творцы готических построек читали труды Жильбера (Гильберта) де ла Порэ или Фомы Аквинского в оригинале. Но помимо непосредственного приобщения к идеям схоластики, существовало бесчисленное количество иных путей распространения схоластических взглядов, оказывавших влияние на создателей готики. (…) их деятельность необходимо приводила их в контакт с теми, кто составлял для них литургические и иконографические программы. Среди этих путей — посещение школ, слушание проповедей, посещение публичных диспутов, которые проводились в самых различных местах (disputationes de quolibet) и на которых обсуждались всевозможные проблемы, волновавшие тогда общество; эти диспуты часто превращались в события общественной жизни, чем-то напоминавшие наши оперы, концерты или публичные лекции. Создатели готических строений могли, в конце концов, приходить в полезное для них соприкосновение с учеными людьми и по множеству других поводов. Подобно «Суммам» высокой схоластики, собор высокой готики стремился прежде всего к «тотальности», и, таким образом, здесь прослеживается тенденция приблизиться, через синтез и устранение всего мешающего, к совершенному решению. Иными словами, мы можем говорить о едином плане высокой готики или о единой системе высокой готики со значительно большей определенностью, чем это можно было бы сделать по отношению к любому другому периоду. В своей образности собор высокой готики стремился воплотить всё христианское знание — теологическое, естественнонаучное и историческое…
Имеется одно свидетельство (несомненно, хорошо известное, но еще не рассматривавшееся в нужном нам свете), которое показывает, что французские архитекторы XIII века действительно мыслили и творили в полном соответствии со схоластическими воззрениями. В «Альбоме» Виллара де Оннекура имеется план «идеального» восточного конца собора, который он и еще один мастер, Пьер де Корби, создали, судя по несколько более поздней записи, inter se disputando («споря между собой»). Здесь, таким образом, мы имеем двух архитекторов высокой готики, обсуждающих quaestio, причем некто третий, оставивший запись, называет это обсуждение специфично схоластическим термином disputare, а не использует слова вроде colloqui, deliberare, которые не входили в схоластический лексический репертуар. И каков же результат этого disputatio? Восточный конец церкви, который сочетает, так сказать, все возможные Sic со всеми возможными Nun. Здесь есть двойная обходная галерея, совмещенная с венцом полностью развитых капелл одинаковой глубины. Эти капеллы в плане поочередно полукруглые и — по обычаю цистерцианцев — квадратные. В то время как квадратные в плане капеллы перекрыты — каждая, как это обычно и делалось — отдельным сводом, полукруглые капеллы перекрыты сводами (под одним замковым камнем), общими с прилегающими секторами внешней обходной галереи — именно так было сделано в Суассоне и других постройках, следовавших суассонскому примеру. Здесь схоластическая диалектика подвела архитектурное мышление к точке, где оно уже почти перестало быть архитектурным».
МА: Как видим, у профессиональных исследователей нет никакого акцента на взрывную «физиологичность» готики. Витальная готическая мифология вписана в иерархическое иудейско-христианское пространство. Откуда у Ваймана это романтическое жесткое противопоставление готики Ренессансу? Здесь необходимо напомнить, что история Западной Европы — это череда возрождений античности, начиная с Меровингского возрождения как минимум, о чем написано специальное исследование того же Панофского.
А вот из его же работы о Сюжере (Суггерии) и Аббатстве Сен-Дени:
"Сюжер вряд ли назвал бы (готические) изображения «сияющими», если бы он не был знаком с текстами Ареопагита в переводе Иоанна Скота, которые показывают, что каждая сотворенная вещь «является для меня светом»… Сюжер видел отличительные эстетические особенности нового стиля в архитектуре. Он эстетически переживал - и заставляет нас это почувствовать - большую просторность и вместительность церкви и выразил это там, где он пишет, что новый восточный конец церкви «облагорожен красотой длины и ширины»; он отмечает устремленность ввысь центрального нефа, описывая восточный конец церкви «неожиданно взмывающим вверх», благодаря своим опорным столбам; он видит светлую прозрачность церкви и пишет, что она «пронизана замечательным и непрерывающимся светом, льющимся из сияющих окон».
Как видим, ни о какой почвенной физиологичности и «органичности» речи нет.