
Вадим Рутковский: Собрать бы книги все да сжечь
Александр Пушкин, «Сказка о попе и о работнике его Балде» — разжигание религиозной розни

«Идет Балда, покрякивает, / А поп, завидя Балду, вскакивает, / За попадью прячется, / Со страху корячится. / Балда его тут отыскал, / Отдал оброк, платы требовать стал. / Бедный поп / Подставил лоб: / С первого щелка / Прыгнул поп до потолка; / Со второго щелка / Лишился поп языка, / А с третьего щелка / Вышибло ум у старика».
Николай Гоголь, «Ревизор» — публичное оскорбление представителя власти
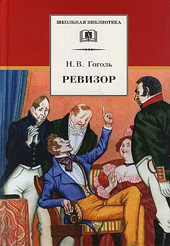
«Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы; у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и — шасть...»
Федор Достоевский, «Преступление и наказание» — пропаганда насилия

«Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, едва себя чувствуя, и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать "заклад". Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся к ее лицу; она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть, а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой».
Лев Толстой, «Детство» — пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних

«Второй Ивин — Сережа — был смуглый, курчавый мальчик, со вздернутым твердым носиком, очень свежими красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. (...) Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастия; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои, во сне и наяву, были о нем: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение».
Валерий Брюсов, «Последние страницы из дневника женщины» — материалы порнографического характера; пропаганда гомосексуализма

«— Опомнись, Лидочка! — говорю я. — Как ты можешь плакать от любви ко мне. Я твоя сестра, я тоже тебя люблю, нам ничто не мешает любить друг друга. О чем же твои слезы?
— Я люблю тебя иначе, иначе, — кричит Лидочка. — Я в тебя влюблена. Я без тебя жить не могу! Я хочу тебя целовать! Я не хочу, чтобы кто-нибудь владел тобою! Ты должна быть моя!
— Подумай, — говорю я, стараясь придать всему оборот шутки. — Сестрам воспрещено выходить замуж за братьев. А ты требуешь, чтобы я, твоя сестра, женилась на тебе. Так, что ли, дурочка?
Лидочка скатывается с кушетки на пол и на полу кричит:
— Ничего не знаю! Знаю только, что люблю тебя! Люблю твое лицо, твой голос, твое тело, твои ноги. Ненавижу всех, кому ты даешь себя целовать! Ненавижу Модеста! Затопчи меня на смерть, мне будет приятно. Убей меня, задуши меня, я больше не могу жить!
Лежа на полу, она хватает меня за колени, целует мои ноги сквозь чулки, плачет, кричит, бьется».
М. Агеев, «Роман с кокаином» — пропаганда наркотических средств
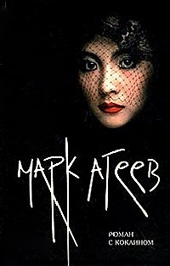
«Теперь и мой порошок был уже взвешен и лежал аккуратненько передо мною, между тем как Мик, затворив за вышедшим Хирге дверь, с большой осторожностью высыпал свой порошок в вынутый из кармана крошечный стеклянный пузырек. Понюхав кокаина (Мик тоже нюхал как-то по-своему, на иной лад, чем другие, — опускал в пузырек, в котором кокаин игольчато облепил стенки, тупую сторону зубочистки и, вытащив на ее выгнутом кончике пирамидку порошка, подносил к ноздре, ничего не просыпая), понюхав, он увидал мой еще нетронутый пакетик.
— А вы-то что же не нюхаете? — спросил он меня тоном укора и недоумения, будто я читал газету в фойе театра, в то время как спектакль уже начался. Я объяснил, что собственно не знаю как, да и у меня и нечем. — Пойдемте, я вам все сделаю, — сказал он совершенно так, словно у меня не было билета, и он выражал готовность мне его дать».
Александр Вертинский, «Лиловый негр» — унижение национального достоинства

«Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы? / Куда ушел Ваш китайчонок Ли?.. / Вы, кажется, потом любили португальца, / А может быть, с малайцем Вы ушли. / В последний раз я видел Вас так близко. / В пролеты улиц Вас умчал авто. / И снится мне — в притонах Сан-Франциско / Лиловый негр Вам подает манто».
Венедикт Ерофеев, «Москва — Петушки» — реклама алкоголя в печатных СМИ и интернете
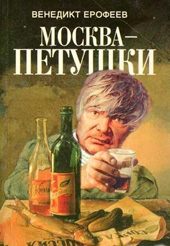
«И немедленно выпил...»
Юз Алешковский, «Николай Николаевич» — пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их национальной или расовой принадлежности; нецензурная брань

«И правда, указ вышел: от пяти до четвертака. Я перебздел. И везло мне что-то очень долго. И специальность получить хотелось. Но работать я не любил. Не могу и все. Хоть убей. Пришлось идти в институт к соседу, все ж таки, потому что примета такая: если перебздел — скоро погоришь. С соседом этим по утрам здоровались, он в сортире подолгу сидел, газетой шуршал и смеялся. Воду спустит и хохочет. Ученые, они все авоськой стебанутые. По-моему, он тетку тоже ебал, и в общем, устроился я в его лабораторию. Фамилия его была Кизма. Нацию не поймешь, но не еврей и не русский. Красивый, но какой-то усталый, лет под тридцать.
— Будешь, — говорит, — реактивы носить, опыты помогать ставить, захочешь — учиться пойдешь.
— Нам, — говорю, — татарам, одна хуй. Что ебать подтаскивать, что ебаных оттаскивать...»
Фридрих Горенштейн, «Чок-чок» — материалы порнографического характера
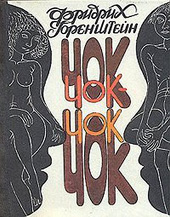
«Когда Сережа, скользя по косогору, добрался к знакомым уже березкам, заглянул, как за занавеску, раздвинув кусты, Кира сидела одна, поджав под себя колени, и курила. Эта спокойная Кирина поза показалась Сереже ужасно соблазнительной, возбуждающей. Вот она, сидящая боком, повернулась к нему лицом, и меж тяжелых литых ляжек под темно-русою зарослью он увидел то самое, свободно вывернутое, мясное. Истома вошла из тела в кости, в позвоночник, опустилась к пояснице, желая наружу, но не имея выхода, давила и давила вниз, от поясницы к все заглушающей в Сереже опухоли, к такой опухоли, какую прежде, еще минуту-другую назад нельзя было представить, вот-вот готовой лопнуть от собственного перенапряжения. Говорить Сережа не мог, ему казалось, что он что-то спрашивает, но голос глох в горле. Поэтому он молча протянул лилию Кире.
— Какое чудо! — умиленно сказала Кира. — Иди сюда, мальчик, я тебя поцелую, — сказала она, отбросив папиросу далеко в кусты, — иди сюда! — раскрыла объятия.
Стараясь опираться на левую здоровую ногу и не обнаруживать своего ранения, Сережа шагнул к Кире, она подняла руку к лилии и вдруг вместо лилии цепко схватила Сережу за запястье, рывком потянула к себе.
— Трусы сними, трусы, — тихо, сквозь зубы сказала она и сама рванула трусы на Сереже вниз, освободила набухшую Сережину промежность.
Как тогда у Бэлочки, представляя, как это должно быть, Сережа быстро, быстро задвигался в пояснице, дергая бедрами, попадая в мягкое, мягкое.
— Нет, — засмеялась Кира, — нет… Ноги раздвинь… Нет… Нет… Ах...»