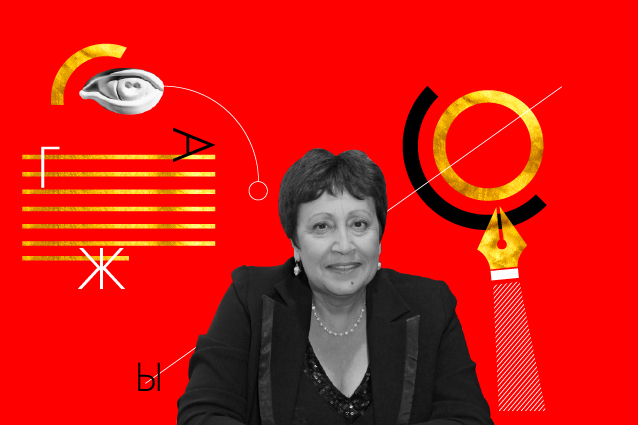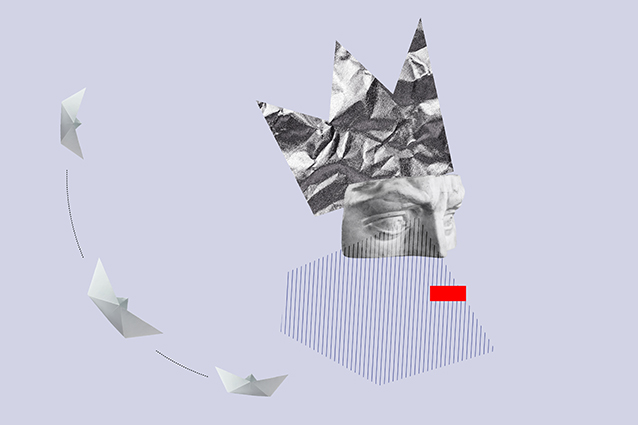Дина Рубина: В благодетельных дебрях психиатрии. Отрывок из романа «Маньяк Гуревич»
Интервью с Диной Рубиной читайте здесь
***
Года через полтора полноценной психиатрической практики Гуревич, если б захотел, мог бы стать душой любой компании, рассказывая (без имен, разумеется) о маниях, причудах, высказываниях и поступках своих пациентов. Они были невероятно разнообразны и невероятно смешны. Но Гуревич даже Кате не рассказывал о своих больных. Правда, она всегда замечала, когда он возвращался домой подавленным или, как ей казалось, непривычно грустным. «Гуревич, — спрашивала грозно, — ты чего это у меня квелый такой?» У Кати была смешная старомодная привычка целовать его в плечико. Подойдет, клюнет в худое плечо: «Эй, Гуревич! Ты у меня чего-то скис совсем?»
Было, конечно, было от чего скиснуть. Хотя на работе Гуревич держался молодцом, слыл внимательным к пациентам. Унаследовал от отца глубокий задушевный баритон, и, хотя стихов не декламировал, больные как-то успокаивались после беседы и стремились встретиться вновь, рассказать доктору все, что их мучило. Гуревич слушал, участливо глядя в лицо больного, кивая и никогда никого не прерывая. Еще у него была манера брать руку тревожного пациента в обе ладони и как-то ее потирать, пожимать, успокаивать.
Душевнобольные женщины широкого диапазона возрастов писали ему любовные письма.
Разные, разные лица сопровождали его дни — ну и ночи, конечно. Проснешься в три часа ни с того ни с сего, лежишь, бревно тоскливое, — прислушиваешься, как сопит во сне Мишка. Как уберечь ребенка от всей этой муторной бодяги, на пороге которой стоит он — маленький, в синих трусиках, — и таращит глаза в гулкую темень под названием жизнь?
И о работе думаешь; бесконечно думаешь о работе. Например: а собственно, что такое — норма?
Подполковник Ольга Ивановна Ланге
Была она маленькой и невесомой, как зяблик. Прозрачное пергаментное личико, пронзительные васильковые глаза; и если в старости они так светили, можно представить, какими синими были в юные годы.
Ей было сто лет в обед, по крайней мере, восемьдесят с большим гаком, и последние лет сорок она лежала с диагнозом шизофрения. У нее был революционный бред. Тихим уютным голоском она привычно докладывала любому интересующемуся, что была соратницей Дзержинского, делала революцию, была членом Чрезвычайной Комиссии; что в юности носила кожанку, разоблачала буржуев, изымала у них деньги, ценности, предметы искусства, после чего самолично расстреливала их из маузера в подвале на Литейном.
Все это было написано черным по белому в истории ее болезни, и весь этот бред она несла в массы товарищей по диагнозу, видимо, когда-то зазубрив несколько газетных передовиц.
«Пролетарская диктатура в СССР живет, и рука ее тверда, — сообщала Ольга Ивановна убежденно. — Нетрудящийся да не ест! — говорила. — В условиях экономической разрухи все лица, кто подпадает под статью 65-ю нашей конституции, должны выполнять общественные работы и повинности: улицы расчищать, дрова заготавливать… А кто не занят общественным трудом, те пусть раз в неделю отмечаются в милиции!»
Все ее любили, Ольгу Ивановну, и все чем-то подкармливали. Гуревич, например, вечно таскал ей миндальное печенье, она его страсть как любила.
Однажды, в какой-то грандиозный государственный праздник на ее имя пришел в больницу голубой конверт под грифом: КГБ СССР. То есть сначала конверт был направлен по домашнему адресу, но соседи по коммуналке просто принесли его на проходную больницы. Гуревич всю эту историю прочувствовал дрожью собственной шкуры, так как лично вскрыл конверт. Там было широкое, бордовое с золотом, поздравление.
«Почетного сотрудника Госбезопасности, заслуженного работника НКВД в чине подполковника Ольгу Ивановну Ланге…» — дальше Гуревич уже не читал, так как в глазах его запрыгали буквы, заполыхал бордовый с золотом ранжир, а мысли метались, будто его поставили к стенке и жизни осталось секунд двадцать.
Ну что: пойти узнавать у нее — каким образом правда ее биографии обратилась в шизофренический бред? Она выдаст одну из своих мантр, вроде того что «пролетарская диктатура в СССР живет, и рука ее тверда». И все же Гуревич попытался хоть что-то выяснить. Пытался вызвать Ольгу Ивановну на разговор о былом. Та была словоохотлива, сообщила ему, что без трудовой книжки он не получит продовольственные карточки:
— Я тебя, сука буржуазная, сейчас по жилочкам разберу! И полный запрет на буржуйскую торговлю! И всю буржуазию обложить чрезвычайным налогом, контрибуцией в десять миллиардов рублей. Остальных — в расход, стрелять мы пока не разучились…
Гуревич заглянул в кристальные синие глаза в складках пергаментной кожи и порадовался, что маузер остался в ее далеком прошлом.
«Так она — что, здоровая?! — кричал он потом главврачу. — Вы здесь сорок лет держали здорового человека?!»
«Не мы, — поправил его главврач. — Не мы с тобой. Мы ее получили в наследство. И не бегай, ради бога, не мельтеши, голова болит. Конечно, она больна… Она уже больна. То есть, — поправился он, — всегда была больна, конечно».
Вот и думай: когда, на каком витке грандиозной своей биографии Ольга Ивановна Ланге сверзилась в шизофрению?
И что теперь со всем этим делать, скажите вы на милость! Поздно разбираться: эта чекистская тварь, вдохновенная эта убийца, была одинока, как перст, десятилетиями жила в больнице. Тут был ее приют, родной ее дом, собственная койка и какая-никакая еда. И если вдуматься: разве та реальность, в которой она, синеглазая валькирия в кожаной куртке с маузером на поясе, именем диктатуры пролетариата грабила и убивала людей — разве та реальность не являлась настоящим сумасшедшим домом?!
Сжимая зубы, он глядел, как удаляется по коридору, влекомая сквозняками, тщедушная фигурка.
Она любила миндальное печенье.
Гуревич продолжал ей его таскать.
Самовар в кавалерийских сапогах
Алкоголизм, конечно, был главнейшим поставщиком больничного населения. Вот уж поистине демократичный недуг: алкоголики всех стран… и далее по тексту. Вот уж область, где ни эллина, ни иудея, ни доцента, ни знатной мотальщицы…
Знатной мотальщицей была Анна Трофимовна Ложкина. И улыбочки здесь ни к чему. Была она дважды Героем Соцтруда — тут надо просто представить, предположить, вообразить, сколько всей (шерсти, что ли? или пряжи?) ей пришлось намотать на эту награду Родины! Поистине народная русская жилистость, народный способ забыться в работе.
А в свободное от работы время Анна Трофимовна утешалась и забывалась совсем иным, и тоже народным способом. И для того, чтобы ей никто не мешал, она уединялась у себя дома, запиралась на все замки, ни на стук, ни на телефон не откликаясь. Так крепость готовят к осаде, запасаясь провиантом, питьем и горючим.
С горючим у нее было все в полном ажуре. Стоял на столе начищенный до ослепления самовар, наполненный водкой из восьми бутылок. Анна Трофимовна подносила к кранику чашку с блюдцем Ленинградского фарфорового завода, открывала краник, наполняла чашку и, отставив мизинец — ни дать ни взять персонаж с картины Кустодиева «Купчиха за чаем»», — культурненько выпивала одну за другой… одну за другой. Трудовое такое упорство знатной мотальщицы.
А уж затем, по ходу ассамблеи — рассупониться, снять с себя лишнее при таком внутреннем жаре. А лишнее тут даже самое что ни на есть легкое бельишко…
…Пожарная команда сняла ее, голую, с березы, что росла под окном ее квартиры.
Привезли ее в смену Гуревича, в мусситирующем делирии, всю в синяках, порезах да ссадинах, невнятно бормочущую, с некоординированным двигательным возбуждением. Прогноз тяжелый, штука скверная. И Гуревич после дежурства даже домой не пошел. Сутки провел над Анной Трофимовной, выводя ее из острого состояния.
Недели через три-четыре Анна Трофимовна — посвежевшая, умытая, в уютном голубом халатике, с бирюзовыми сережками в ушах, — стеснительно вручила доктору Гуревичу конверт.
— Что это? — подозрительно спросил Гуревич, опасаясь, что протрезвевшая больная вздумала отблагодарить его деньгами.
— Это… рапорт, — ответила та. У нее были выразительные, гордого разлета брови, на лице они представляли самую оживленную деталь: взлетали, сходились в сумрачной мысли, подскакивали, когда она несмело улыбалась. — Рапорт, ну, это… объяснительная. Я ведь… я вам обязана сдать рапорт о происшествии?
«Лечащему врачу Гуревичу С.М. от знатной мотальщицы Героя Социалистического Труда Анны Трофимовны Ложкиной…»
Гуревич читал объяснительную, укрывшись в ординаторской. Сигарета дымилась в пальцах, он забывал затягиваться.
«Начиная с тринадцатого марта я сидела у себя дома и пила водку из самовара. Вдруг… не вдруг, а на другой или третий день, у самовара отросли ноги, обутые в кавалерийские сапоги! Самовар спрыгнул со стола и погнался за мной на этих ногах, рожая по пути утят и поросят. Это было очень, очень страшно! Он бегал за мной вокруг стола, гонял меня, как собака — лису, и всю комнату постепенно заполнял утятами и поросятами, которые путались у меня под ногами и не давали убежать. Чувствуя, что сейчас от страха разорвется мое сердце, я вскочила на подоконник, рванула окно и покатилась вниз… и потом ничего не помню, кроме порезов и рваных ран на всем теле. И вот, не знаю: то ли они от сучков на березе, то ли все ж таки догнал меня и порвал этот изувер в сапогах с его приспешниками, утятами и поросятами…»
Гуревич, который любил хороший юмор и сам был горазд при случае неслабо схохмить, читал эту «объяснительную» со стиснутым сердцем, со страдальчески сведенными бровями.
Он всегда подобные письма читал с трагическим осознанием своей беспомощности; всегда — с несусветной гримасой на лице, так что, если Катя заставала его за этим занятием, она интересовалась: вызывать уже для самого Гуревича карету в дурдом или погодить.
Но Гуревич-то знал, что точно так, как сейчас он видит перед собой стол, холодильник и Катю в его собственном венгерском спорткостюме (опять она хапает его одежку!) — так же явственно больной в мусситирующем делирии видит перед собой самовар на ногах, обутых в кавалерийские сапоги. Гуревич до боли явственно представлял (а заодно и чувствовал своей проклятой эмпатической шкурой!) тот леденящий ужас, при котором человек может сигануть в окно, только бы убежать от невыносимого кошмара. Ведь эти картины больной воспринимает не как театр, или сон, или там галлюцинацию. Бедная Анна Трофимовна: она видела, бедняга, просто видела своими глазами самовар, на бегу рожавший всю эту нечисть!
Ничего, ничего… все наладится. Больная вышла из делирия, но у нее еще — как говорят психиатры — нет критики на прошлое состояние. И потому она кивала, слушая мягкий голос Гуревича; бирюзовые сережки подрагивали в круглых маленьких мочках ее ушей, брови распахивались и, казалось, хотели успокоить и лицо, и душу. Руки же беспокойно разглаживали на коленях бархатистую ткань халатика. Гуревич вспомнил, как еще позавчера она, безостановочно бормоча, пыталась поймать летающих в воздухе уточек и поросят, стряхивала их с себя и, тараща в ужасе голубые глаза, натягивала повыше одеяло: симптом карфологии.
«Ну да, я уже нормальная, я все понимаю, сейчас я все осознаю, — застенчиво твердила больная. — Но, доктор… то, что я видела, я же видела своими, этими вот глазами!»
Ему хотелось заорать: «Аня, *****! Еще хоть капля водки проклятой, и ты сдохнешь, просто сдохнешь, понимаешь ты это или нет?!!» Но он взял ее руки в свои — теплые докторские руки — и поглаживал, и успокаивал, и убеждал ее, глядя в круглые голубые глаза потомственной алкоголички под высокими роскошными бровями…
Гуревич затянулся в последний разок, перечитал «рапорт». Ничего, ничего, все нормально, скоро у нее появится критика…
Правильно, что психиатрам дают прибавку к зарплате, думал он; правильно, что у них — два месяца отпуска. Психиатрия — профессия вредная, вроде рентгенологии.
«…обязуюсь впредь, — писала Анна Трофимовна, как, должно быть, писала она трудовые обязательства, за досрочное выполнения которых дважды заработала высокую награду, — впредь обязуюсь никогда больше не видеть самовара на ногах, обутых в кавалерийские сапоги, на бегу рожающего утят и поросят».
Надежный сейф для драгоценностей Эсфирь Бенционовны
Эсфирь Бенционовну Могилевскую Гуревич называл просто Фирой. Иногда Фирочкой — и не фамильярность это была, а чистое сострадание.
Она была красивой утонченной еврейской женщиной лет под сорок. Красива слегка утомленной красотой актрисы раннего кинематографа: изысканная помесь Веры Холодной и Иды Рубинштейн. И дед, и отец ее были известными питерскими ювелирами: богатая образованная семья, женщины все по музыкальной и балетной части. Ювелиры могли себе позволить таких вот женщин, будто предназначенных для демонстрации дорогих украшений; да они и сами были как дорогие украшения.
Эсфирь, наследница немалого богатства, единственная дочь и единственная внучка в закрытой и опасливой семье, в детстве и балетом занималась, и языки знала (три главных европейских), и консерваторию окончила — все, как полагается. В состоянии ремиссии вела в филармонии цикл музыковедческих лекций на темы: классицизм, романтизм и модернизм в истории мировой музыки.
Гуревич представлял нитку жемчуга на этой лебединой шее, длинные изумрудные серьги в мочках изящно выточенных природой ушек, заколку с сапфиром в шляпке-таблетке, игриво сидящей на пышных каштановых волосах…
Но Фира являлась к нему с кастрюлей на голове, и Гуревич понимал, что у Фиры — обострение.
Когда наступало осенне-весеннее обострение, Эсфирь Бенционовну Могилевскую охватывала паника: из первых рук (и абсолютно достоверно!) она узнавала, что КГБ проводит операцию по обнаружению ее тайников и изъятию всех ее сокровищ. («Они хотят все отнять, представьте себе, Семен Маркович!») Для этого на луне поставлен мощный отражатель, кварцевый такой проектор, который направляет луч прямо ей в голову. Она начинает чувствовать действие этого луча, особое, ужасное внушение: принести и сдать этим убийцам-головорезам на Литейном все, что за полтора века своими руками и талантом создали ее предки. Все отдать этому бандитскому государству — все! И чтобы не слышать внушения, не поддаваться ему, она надевала на голову эмалированную зеленую кастрюлю — ибо только так можно было защитить свой мозг от ужасного нападения.
Месяца за два Гуревич приводил Фиру в порядок — конечно, относительный. Ее природная живость, порывистость, обаяние и артистизм несколько пригасали, зато в движениях появлялась спокойная плавность. И она столько знала о музыке, о балете, о театре! Пока Фира у них лечилась, Гуревич заходил к ней на отделение и оставался поболтать. Это было… ну, как прослушать курс лекций в университете.
Она доверяла ему безгранично! Однажды даже рассказала, где у нее в квартире спрятан сейф — действительно, хитроумно: тот был встроен в мощную стену старого петербургского дома в кухне, под мойкой, за мусорным ведром. Двое мужей Фиры (очень достойные люди, уверяла она) не вынесли вида зеленой кастрюли на голове жены и тихо покинули роскошную двухэтажную квартиру на Петровской набережной с дорогой мебелью, картинами и сейфом с драгоценностями за мусорным ведром, — ни на что не претендуя и оплакивая свою любовь. Действительно, достойные люди…
Обычно Эсфирь Бенционовна загодя уже чувствовала готовящиеся атаки лунного отражателя КГБ Ленинграда на свой драгоценный мозг и сама приходила к Гуревичу.
Но однажды ее долбануло прямо в филармонии, в перерыве между двумя отделениями — ее лекцией о шедеврах Римского Корсакова и собственно концертом из некоторых произведений этого композитора.
Перепуганные и шокированные сотрудники филармонии вызвали скорую, и Фиру в одиннадцатом часу вечера привезли в больницу, в чем была.
А была она в жемчужном бархатном платье, сшитом для сцены знаменитой ленинградской портнихой Полиной Фатеевой, в норковом палантине «махагон», в соответствующих итальянских туфельках на соответствующих каблуках и в том самом ювелирном гарнитуре: колье, серьги, браслет. Да-да, те самые изумруды и бриллианты, которые делали ее строгую красоту совершенно неотразимой.
Фира требовала Гуревича. Фира требовала свою кастрюлю. Она требовала защиты от КГБ.
Гуревич вообще-то только почистил зубы и на цыпочках, чтобы не разбудить Катю и Мишку, двинулся к раскладному дивану, на котором они с Катей — как и его родители когда-то — ночью спали, а днем и вечерами переодевали сына, перекусывали перед теликом и вообще, вели разнообразную семейную жизнь. Гуревич на цыпочках продвигался к разложенному дивану, выстраивая траекторию бесшумного и бесконтактного перелаза через Катю к стенке, где ему положено было вжаться в обои и лежать так до утра. Но изгиб Катиной спины под простыней, плавно переходящий в крутое бедро, навел Гуревича на мысль о неизбежном контакте… на сладкое такое предвкушение этого... вот сейчас… конта-а-а-акта…
И тут затрезвонил телефон.
Он матернулся и прыгнул в коридор к аппарату. Все предвкушения были смяты...
Звонил дежурный врач Володя Земельник, извинялся, конечно: «Старик, мне страшно неудобно, но тут Могилевскую привезли. Она в остром психотичном возбуждении, и как-то жалобно тебя зовет».
Да, перед Эсфирью Бенционовной, перед утонченной ее красотой и широкой эрудицией робели все — от вахтера и санитаров до медсестер и врачей. А уж в том филармоническом прикиде, в каком ее на сей раз доставили в больницу…
Катю, конечно, разбудил звонок телефона. Но поднялась она не от звонка, а от громыхания кастрюль на кухне.
— Господи, да что ж такое, Гуревич?! Ты спятил, что ли?!
Гуревич сидел на корточках перед раскрытыми дверцами кухонного шкафа. Небогатый набор кастрюль, которыми управлялась его жена на хозяйстве, был выстроен на полу. А одна кастрюля сидела у него на голове как турецкая феска.
— О, Катя, хорошо, что ты проснулась! — обрадовался он. — Иди-ка сюда, я примерю…
— Иные мужья примеряют женам диадемы, — сообщила ему Катя из-под слишком большой кастрюли, голос ее был гулким.
— Давай примерим эту вот…
…Он вернулся часа через три, глубокой ночью. Аккуратно расправил и разгладил на плечиках, повесил в шкаф в прихожей роскошный Фирин палантин. Вынул из внутреннего кармана пиджака кулек, свернутый из листа писчей бумаги с грифом больницы, и минут десять слонялся по двадцати шести метрам их квартирки, пытаясь найти достойное место схрона; в бумажном кульке были Фирины драгоценности, которые она сняла и умолила спрятать от КГБ «в надежном сейфе». Нашел наконец место: в деревянной хлебнице. Хохломское сувенирное изделие — дурацкая, в сущности, бесполезная покупка: хлеб, любимый-ржаной-бородинский, всегда лежал у них на виду, на кухонном столе. А чего его прятать, говорила Катя, когда его жрут с утра до вечера.
На воскресное утро у них были планы погулять с ребенком в ближайшем парке, но день, конечно, был безвозвратно потерян. Гуревич только глаза продрал к одиннадцати: Мишка орал где-то в ванной, как резанный.
Гуревич поднялся, натянул старый свитер и старые треники, поплелся искать кого-то среди живых. Заглянул в ванную…
Катя мыла над раковиной годовалого сына. Пузом тот лежал на Катиной ладони, кверху торчала виновная попа, омываемая неумолимо холодной струей. Значит, бездельник опять поднял восстание. А ведь его уже месяца три как приучали к горшку.
— Не ори! — кричала Катя, перекрикивая сына. — Не ори, бесстыжий! Большой такой парень обсирается!
Она оглянулась на застрявшего в дверях мужа, и тот ахнул: на шее его жены сверкало Фирино колье, в ушах качались изумрудно-бриллиантовые серьги.
— Ну, че, че?! — нарочито дразнясь, крикнула Катя. — И примерить нельзя, что ль?
Он возмущенно запнулся, собираясь сказать, что это — недостойный поступок… чужие вещи… ужасающие ценности… что он в ответе за…
И вдруг увидел — какое мерцание, какие морские брызги рассыпает по Катиной лебединой шее Фирино колье, каким блеском отзываются ее зеленовато-карамельные глаза прозрачной изумрудной тайне. И сердце его дрогнуло и сжалось.
— Катя, я… куплю тебе такое же… такие же! Обязательно! Клянусь, я…
— Да ладно тебе, — легко проговорила она, сгружая ему на руки сына и на ходу снимая весь этот драгоценный плеск, и счастье, и безумие, и божий страх. — Ерунда все это. Пошлятина. Я вообще люблю серебро, ты же знаешь. Недорого и благородно.
Да знал он, знал, конечно. И всю жизнь дарил ей серебряные кольца номер 19.5 — у Кати были крупные любимые руки. И камни она ценила крупные, броские-самоцветные: яшму, бирюзу, янтарь, сердолик и агат. И лежало все это хозяйство сказочной грудой в хохломской шкатулке, совсем уж посторонней в том климате и антураже, в котором прожили они большую часть своей супружеской жизни.
А до надежного сейфа руки так и не дошли, хотя все эти сейфы, малые и побольше, и все сплошь надежные, с гарантией и установкой, можно было запросто приобрести в магазинах сети «Тамбур».
В «Хозтоварах», по-нашему.
Повелитель мира Эрнест Миронович Качка
Когда-то он был главным инженером Ижорского судостроительного завода. Да представляете ли вы всю мощь и славу данного гиганта отечественной промышленности, поставлявшего для военно-морского флота СССР множество кораблей! В семидесятых-восьмидесятых годах ижорцы сдали двадцать семь кораблей для родного ВМФ и поставили судна для Ирака, Ливии, Сирии, Кубы, Индии.
В общем, в одной из командировок в эти прогрессивные страны Эрнест Миронович подцепил сифилис.
Болезнь, как говорится, на слуху, но не каждый представляет себе последствия. Не леченый сифилис постепенно переходит во вторичную, а затем и в третичную стадию, поражая головной мозг. Говоря проще: человек становится слабоумным. Есть тому в истории знаменитые примеры: Фридрих Ницше, Иван Грозный, Ги де Мопассан… отвлекаться на них не станем.
Эрнест Миронович Качка сидел в своей палате, на голове у него была корона из фольги, на груди висела картонка: «Повелитель мира».
К Гуревичу он испытывал особую симпатию («Как и прочие сумасшедшие», - добавляла тут обычно Катя).
Когда по утрам Гуревич заходил на отделение (это произносилось именно так и точно с таким выражением, с каким актеры произносят «на театре») — когда он заходил поздороваться с больными, Эрнест Миронович сидел у входа на табурете и терпеливо его ожидал. И вручал Гуревичу письмо с видом, с каким Бонапарт, возможно, вручал письменные распоряжения своим генералам. Гуревич брал это письмо с легким поклоном («потому что ты — шут гороховый», и это снова Катя), удалялся в свой кабинет и там читал послание:
«Подателю сего Гуревичу Семену Марковичу дарую все сокровища морского дна».
Податель сего аккуратно складывал письма в тонкую папочку и оставлял ее в среднем ящике письменного стола. Не потому, что надеялся когда-то предъявить дарственную к оплате; просто комические эти каракули бывшего мощного мужика, умницы, острослова и гениального организатора гигантского производства казались ему трагическим напоминанием о бренности всего сущего.
Так вот где таилась погибель моя, — сказал бы здесь папа, — мне смертию кость угрожала!
Как-то грустно ему было.
Болезнь Мироныча, третичный сифилис, прогрессировала. Дары его, увековеченные в ценных бумагах, становились все скромнее, почерк — все ужаснее: «Подателю сего Гуревичу Семену Марковичу я дарую все стада быков в аргентинских пампасах. Повелитель мира…» — и росчерк. Уверенный росчерк главного инженера крупнейшего в стране предприятия…
Последний письменно удостоверенный дар, который Эрнест Миронович вручил Гуревичу перед тем как помереть, звучал так: «Подателю сего (неразборчиво) дарую две пачки чая и банку сайры». Подпись отсутствовала. Да и личность отсутствовала давно и безвозвратно.
Гуревич принес домой папку с письмами Мироныча. Ночью поднялся (не спалось чего-то), ушел на кухню и сидел там, курил, перебирал свидетельства всех даров морского дна, аргентинских пампасов, а также пачки чая, банки сайры…
Из мертвой главы гробовая змея шипя между тем выползала…
— Мать твою, Гуревич! — привалившись плечом к косяку, в дверях стояла Катя в ночнушке и наброшенном поверх халатике. — Ты сам хочешь в психа превратиться!
Вот тогда она впервые вдруг произнесла: «Давай уедем!» — фразу, неожиданную для русской жены. Давай уедем… Куда? Где можно спрятаться от безумия этого мира? Гуревич лишь усмехнулся.
А сдался гораздо позже, после совсем другого случая…