
«Черные глаза» Маргариты Симоньян

В мире нет наслаждения сладострастнее, чем нырнуть в лунную ночь с волнореза в Черное море.
Минуту я целюсь в слепую бездну, скольжу мокрыми пятками по бетону, заросшему влажной слизью зеленых водорослей. Кто там ждет меня? Я знаю, кто ждет меня. Я люблю его с детства. Я хочу его прямо сейчас. Я соскучилась.
Кончики пальцев вскрывают пленку воды, как подарочный целлофан. Соль врывается в ноздри, сжимается в небе, как слезы внезапной обиды, обжигает йодом гортань — мчись теперь, мчись широким гребком, дальше от волнореза, на котором тревожно курит кто-то случайный, ищет тебя, вглядываясь в черноту — мчись в оглушительное одиночество, в непроглядную глубину, где нет ничего, кроме жгучей свободы и скорости, отречения от суматошного воздуха, сладкой измены всему, что называется жизнью, — покорись этой бездне, не закрывая глаза, отдавайся хозяину, знающему, что по-настоящему — до пронзительной боли в трахее, до судорог в животе — ты всегда отдавалась только ему — ненасытному черному морю... Мчись, пока дно не царапнет по животу колкой раковиной — схватить ее, как трофей, оттолкнуться от дна, только бы не ускользать из твоих объятий, продлить это острое проникновение, мужскую хватку волны, которой я не хочу и не буду сопротивляться, вкус твоей плоти вокруг моих десен, стать одной из твоих покорных русалок, вот бы смочь... но ревнивая жизнь уже бьет в диафрагму, колотится в легких, толкает наверх, к лунным бликам, зачем...
Вдохнула. Ух, далеко отплыла. Лечь на спину, смотреть на луну. Наслаждаться последней конвульсией. Облизать соленые губы. Подчиниться истоме.
Капельки крови вытянулись по струне свежей царапины на животе. Завтра все заживет — главное, не смывать твою плоть. Морская вода заживляет все — даже стыд, даже горе. Даже дурную любовь. Тишина. Одиночество. Счастье. Пока в два часа ночи в рубку дядь Вачика не дозвонится ведущий программы «Вести недели» Евгений Ревенко.
В ту весну мы остановились на бывшей сталин ской даче — единственном месте в Абхазии, где из крана текла вода. Полусъеденный ласковым мхом асфальт забытых дорожек посреди бамбуковой рощи, пугливая дрожь пальмовых листьев вокруг памятника бородатому русскому меценату, основавшему посреди малярийных болот этот эдемский сад. За аллеей слоновых пальм — кокетливые балюстрады балкончиков, щурящихся на ленивое солнце, а за ними глазницы любимой дачи того, кто неведомым чудом не уничтожил ополоумевшего мецената и позволил ему скончаться в тридцать девятом в одном из построенных им санаториев, окруженным рабочими, собиравшими завезенные им мандарины, от миролюбивого кровоизлияния в мозг.
Мы поселились в соседних сталинских спальнях — я и мои ребята: водитель — греческий бык с поломанным носом по кличке Гагр — и оператор по кличке Андрюха, родом из Грозного. Ребята были такие могучие и широкоплечие, что во всех гостиницах с битыми окнами и вонючими простынями, где в те времена проходила наша судьба, их принимали за моих телохранителей. Пару раз это спасало мне биографию. Иначе рожала бы я сейчас четвертую двойню высоко на горе за Сванетским хребтом.
В третьей обшитой угрюмым дубом сталинской спальне поселился знаменитый московский военный корреспондент — с суровой линией челюсти и насмешливым подростковым прищуром.
Вечером всей компанией мы отправились в прибрежную пацху. Под деревянной крышей, в самом центре был устроен очаг, над ним подвешен черный котел и крюки, на которых болталась коптившаяся говядина. Хозяин пацхи нанизывал на шампуры жирные ломти недавно прирезанного молодого барашка.
Увидев нас, одним рывком кривого мизинца хозяин нажал на кнопку кассетника, и по берегу разнеслись неизбывные «Черные глаза». Московский военкор улыбнулся одной половиной губ, по боевой привычке прикрывая сигарету ладонью, чтобы враг не засек огонек. Глаза у военкора были действительно черные.
Полногрудая официантка — в чем-то длинном и черном и таком же черном платке — подошла протереть наш столик. Проголодавшиеся Андрюха и Гагр сглатывали слюну, разглядывая неглубокий вырез ее черной майки. Сутулый хозяин бросил на них искрящий мангальными углями взгляд и с особенной яростью воткнул острый шампур в баранье яйцо.
— Шашлык есть, красавица? — спросил нетерпеливый Гагр.
Красавица, не поднимая ресниц, кивнула на хозяина. — У него спроси. — Может, я тебя хочу спросить. Хозяин резко сверкнул лезвиями черных глаз. — Амза! — крикнул он, вытирая кровавый шампур о черные джинсы. — Ты уроки сделала?
— Когда бы я делала — ты не видишь? — огрызнулась Амза.— Иди делай! — отрезал хозяин. — А эти? — Амза кивнула на нас. — Мрамзу позови. Мрамза была очень похожа на Амзу. Привычным жестом она перехватила тряпку и закончила вытирать стол.
— Вы сестры, что ли? — спросил Гагр. — Сестры. — Вино дай. И сыр вот этот, такой... — Андрюха силился вспомнить, какой ему надо сыр. — Кто старше? — не унимался Гагр. — Я, — процедила Мрамза. — И сколько тебе лет? — Пятнадцать. Гагр поперхнулся слюной. — И зелень! — вспомнил Андрюха. — Вот эту, как ее, такую...
Хозяин застыл над мангалом, следя за Мрамзой углями из-под сросшихся бровей.
— Строгий у вас отец, — сказал Гагр. — Наш отец на войне погиб.
— А это кто? — Гагр кивнул на хозяина. — Муж. — Твой? — снова поперхнулся Гагр. — Амзы. Я вдова. — Твой муж тоже на войне погиб? — Нет. На тарзанке. Мрамза махнула черными юбками и ушла за тарелками.— Брат... Где мы? — прошептал Гагр.
— Вино у них хорошее, — беззаботно отозвался Андрюха. — Эй, хозяин! Сделай нам вот эти, такие. Пельмени большие. Как их, такие...
— Мы такие не делаем, — зло процедил хозяин. — Почему? — Потому что грузины такие делают. Хозяин швырнул остатки маринада в очаг и одним движением окровавленного мизинца яростно выключил магнитофон. Московский военкор, щуря блестящие глаза, посмеивался в свою сигарету.
— Алхас, по-братски, — сказал он хозяину. — Это космонавты из Краснодара, ты их не слушай. Они вообще не пароход. А я завтра встречаюсь с вашим президентом. Покорми нас так, чтобы мне было, что ему рассказать.
— И еще нам нужны женщины! — засуетился Гагр. — Можно одну на двоих.
Гагр тихонько наклонился к московскому военкору: — Или на троих? — Не, я пас, — ответил военкор, разглядывая соленые царапины на моих коленках.
Хозяин обстоятельно разложил баранину над белесыми углями, вытер руки толстым лавашем и гаркнул:
— Женщин у нас нет. — А это кто были? — возмутился Гагр. — Это были жена и сестра.
— Они не женщины? — Нет. Они жена и сестра. — Короче, это! — возмутился Андрюха. — Больших пельменей сделай нам! Хоть пожрем.
Московский военкор снова решил вмешаться. — Ты движения, где не надо, не разводи, — сказал он хозяину примирительно. — Ты сам, когда хочешь расслабиться, к жене, что ли, идешь?
Закатное солнце булькнуло сладким вином в глазах у хозяина — он улыбнулся собственным воспоминаниям. — Отдыхающие есть, — мечтательно протянул хозяин.— Апрель месяц, брат, какие отдыхающие? Были бы отдыхающие, мы бы у тебя спрашивали? — взмолился Гагр.— Короче, там, за рыбзаводом, дом — первые один-три этажа без стекол — третий подъезд возле гор, шестой этаж, там живет одна бздышка. Не очень старая. Она, когда война началась, здесь отдыхала, и ей так война понравилась, что она осталась. Денег не берет, но один-два раза попросишь — может, уговоришь.
— А он? — Гагр кивнул на товарища. Андрюха в этот момент ковырял одинокой вилкой пластик стола.
— Он? — хозяин всмотрелся в Андрюху. — Нет, не уговорит.
— Спасибо, брат! — расчувствовался Гагр. — Ты мне жизнь спас!
Смягчившись, хозяин воткнул в магнитофон другую кассету. Неожиданно заиграла не очень известная американская группа.
This burning flame that burns inside of me every time I see you — why, I don’t know...
— Так люблю эту песню и не знаю, ни что за группа, ни что за песня, — сказала я.
— Алхас, брат! — крикнул военкор. — Что это за кассета?— Без понятия. Перед вами еще корреспонденты приезжали, они забыли.
Мрамза притащила поднос с острым горячим лобио, зеленью, копченой говядиной и мамалыгой. Через пару часов мы выпили девять бутылок «Лыхны» на четверых.
Военкор привычным не терпящим возражений жестом забрал счет. Расплатился рубль в рубль, чаевых не оставил. Почему-то меня это расстроило.
— Ты смотришь, что я чаевые не оставил? Ну, попробуй, оставь, — сказал военкор, заметив мой взгляд.
Я положила сверху мятую сотку. — Это что? — вспыхнула Мрамза. Военкор продолжал посмеиваться в свое красное мальборо.
— Чаевые. Для вас, — улыбнулась я. — Не надо мне! Что придумали! Алхас узнает — вообще убьет!
Военкор потушил сигарету и взглянул на меня прищуром мужчины, привыкшего побеждать легко.
— Ну что, пойдем на море? Месяц низко дрожал над волной, как желтый язык, которым море хотело лизнуть спускавшиеся со стороны ущелья заварные белые облака.
Выйдя из моря в пленительных мокрых ресницах, я присела на гальку. Военкор отдал мне свой свитер, пропахший острым одеколоном и перечным духом чужого мужчины.
— Красиво ныряешь, Марианна, — промурлыкал военкор.
— Маргарита, — поправила я, сделав вид, что обиделась. Набухала неловкая пауза.
— А где твои бойцы? — спросил военкор. — Отпустила их на свободу. Искать любовь. — Свобода — это когда никого не любишь, — сказал военкор.
— Свобода — это когда Москва не звонит и не требует сюжет в два часа ночи.
— Здесь нет телефонной связи. — Москва найдет, если ей приспичит. Ненавижу Москву, — фыркнула я.
— Я москвич, — военкор сделал вид, что теперь обиделся он. Закурил свое мальборо. Я взяла у него сигарету. Зажигалку заклинило, и я прикурила свою сигарету от его, задев его шею своими все еще влажными волосами.
Военкор задержал мою руку чуть выше запястья и длинно посмотрел на мои соленые губы — в его черных глазах жарко вздрогнули два облизывающихся месяца. Острый запах одеколона мешался с запахом подгнивающих водорослей на прибрежных камнях, и от этого голову обволакивало предрассветным туманом...
И тут за волнорезом показались мои Гагр с Андрюхой.— Марусь! Срочно к дядь Вачику!
— Не могу, у меня свидание! — крикнула я. — Не обижает? — на всякий случай уточнил Гагр. — Пока нет, — ответила я. — Но там, это, Ревенко на проводе. — Ревенко? Сам? — я вскочила с камней, на ходу возвращая московскому военкору его вымокший свитер.
Военкор выплюнул недокуренную сигарету. — Да пошли ты его! Совсем охренели в два часа ночи звонить. Хочешь, я пошлю?
— Вот когда вырасту и ты будешь точно знать, Марианна я или Маргарита, тогда и пошлю. А пока я репортер и должна быть на связи всегда.
— Я тоже репортер, и в гробу я видел всех этих ревенок. — Ты где родился? В Москве. А я родилась в дыре. И если я не буду бить копытом, то в этой дыре и умру. А я хочу, как ты, умереть в Москве. Под звон кремлевских колоколов.
— Ты же ненавидишь Москву, — съязвил военкор. — Это пока Москва не запомнила, как меня зовут. В темной радиорубке дядь Вачика к одной стене притулилась лежанка, к другой — стол, обитый клеенкой. На столе — огромная бутыль вина с презервативом на горлышке, остатки кавказского ужина и старый телефон с отложенной трубкой.
— Дядь Вачик, ты зачем трубку взял? — буркнула я. — Я думал, война началась. Я выхватила телефон и постаралась сделать свой голос приветливым и исполнительным.
— Да, Женя. Нет, что ты, конечно, не разбудил. Наоборот, я как раз изучала местную прессу в поиске интересных сюжетов для твоей передачи.
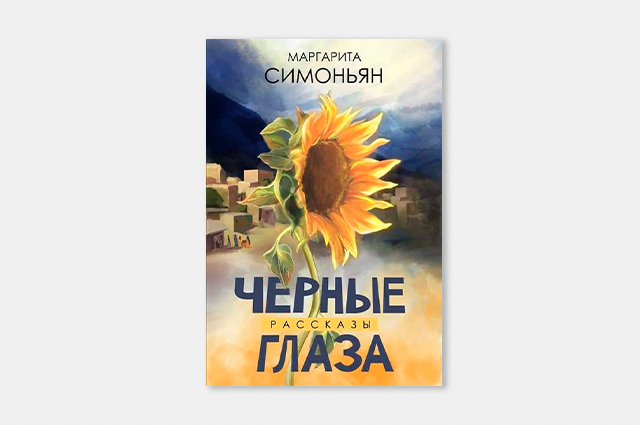
Дядь Вачик шептался с моими ребятами: — Я один раз был в Москве. В театр ходил. Там со мной Армен Джигарханян за руку поздоровался.
Он сосредоточенно осмотрел свои руки и поднял правую.
— Вот за эту. Ревенко на том проводе был бодр, как после утренней физкультуры:
— Я как раз нашел сейчас для тебя интересную тему. «Коммерсант» написал, что у вас там проходят учения абхазской армии. Их проводит абхазское Минобороны. Чтобы попугать грузин. Сделай-ка нам для завтрашнего эфира. — Женя, выбрось эту газету. Тут нет никаких учений никакой армии по той простой причине, что в Абхазии нет армии.
— Ну, «Коммерсант»-то врать не будет. И потом, как это — Минобороны есть, а армии нет?
Придерживая трубку плечом, я пыталась снять презерватив с горлышка бутыли, чтобы налить себе спасительного вина.
— Именно так. Минобороны есть, а армии нет. Это Кавказ. Ты не поймешь.
— А если у них война? Они же сразу проиграют! — Не проиграют. Они пока что ни одну войну не проиграли, без всяких учений. Говорю тебе — ты не поймешь.
— В общем, хоть тушкой, хоть чучелком. Завтра жду тебя в эфире! — отрезал Ревенко.
— Это что, начальник ваш? — с сочувствием спросил дядь Вачик.
— Угу, — обреченно ответили парни. — Он Джигарханяна знает? — Вряд ли. — Ну, какой он тогда начальник, — справедливо приговорил дядь Вачик.
Я хлопнула целый стакан вина и молча уставилась на Гагра с Андрюхой. «Завтра», — сказал Ревенко. Ночь с субботы на воскресенье, нет телефонной связи, и завтра уже наступило.
Я вышла из рубки вдохнуть устричный запах ускользающей пляжной ночи. Под раскидистой мушмулой возле рубки курил военкор. Тонкая полоса синевы над морским горизонтом обещала скорый рассвет.
— Что-то мне подсказывало, что ты здесь, — вздохнула я.— Поехали на дачу, — хрипло сказал военкор и снова взял меня за руку выше запястья — там, где он ее оставил. Я посмотрела на его длинные пальцы вокруг моего запястья, выдохнула и сказала:
— Ты ведь знаешь адрес их Министерства обороны? Наша белая шестерка скакала по битым дорогам застывшего в послевоенной пронзительной красоте Сухума — мимо фарфоровых арок советской курортной архитектуры в оспинах пуль и снарядов, финиковых и бамбуковых джунглей, пожирающих бывшие оживленные улицы, мимо брошенного вокзала, на крыше которого давно проросли потомки привезенных из Ниццы помещиком-меценатом пальм.
Еще не совсем проснувшийся гаишник ткнул палкой в сторону нашей машины.
— Помаши ему рукой и жми на газ, — сказала я Гагру. — Он еще два часа будет вспоминать, чей ты родственник.
В семь утра мы были у блочного сарая за ржавым забором с надписью «Министерство обороны». Под забором стоял худой несовершеннолетний абрек в потертой кожаной куртке и тоже курил красное мальборо. Рядом с ним на мимозе висел автомат.
— Взрослые есть дома? — спросила я. — Нэт, никого нэту, я одын сэгодня. Я огляделась. — Это точно Министерство обороны? — Канешна! Я постовой! — солдат радостно схватил автомат.
— Настоящие? — спросила я, протянув руку к пачке его сигарет.
— Канешна! Брат на горе цех открыл, сам делает! Я засунула сигарету обратно в пачку. — Постовой, — говорю, — дружочек! Мне очень нужно найти министра обороны. Смерть как надо!
— Аслан Сосланович дома отдыхает, вчера на свадьбе гулял, утомился, — неожиданно сообщает мне постовой.
Я думаю примерно секунду. И начинаю рыдать. — Ай-ай-ай, горе мне, горе!!! Вай-вай, не пить мне больше вино, не кушать мандарины, мальборо не курить! К родной племяннице на свадьбу опоздала! Вах, позор моим дочерям! Дочерям моих дочерей! И их дочерям тоже!
— У Аслана Сослановича вообще-то сын женился, — поправляет меня постовой. Но уже видно, что моих дочерей ему жалко. Мне в тот момент было двадцать два, то есть дочери мои, по местным меркам, могли уже в школу ходить.
— Да-да, — воплю я, — сын женился. Племянниц мой, сын Асланчика моего!
— А ты кто? — наконец-то настораживается постовой. — Я? Я кто? Я несчастнейшая из женщин, позор матери моей, стыд мужа моего, грех нации моей. Как я мог, на свадьбу опоздал, шакал я паршивый!
Вижу, у абрека глаза увлажнились. Хватаю его за рога и быстро говорю:
— Я министра обороны родная сестра, из Москвы только что прилетела, на свадьбу опоздала, адрес забыла, кошелек потеряла, языка не знаю, ночевать негде, дай мне министра обороны домашний телефон, спаси честь моих дочерей, умоляю, по-братски!
Постовой всхлипывает. Его не смущает ни то, что у меня нет чемоданов, ни то, что я, родная сестра героя абхазской войны, хожу без платка и не знаю ни слова по-абхазски, ни даже то, что в Абхазии нет аэропорта, в который я теоретически могла бы прилететь. Абрек вынимает последнюю сигарету, сует ее себе за ухо и натурально пишет на пачке поддельного «Мальборо» домашний телефон министра обороны.
— Иди с миром, сестра! — говорит постовой. — Аслан Сосланович тебе простит! Он очень добрый человек. Он столько грузинов убил! Очень справедливый и добрый человек.
Через три минуты добрый человек на том конце провода орал прокуренным басом:
— Девочка! Какие, к осла матери, «Вести недели»? У вас совесть где находится? Человек сына женил, человек два ведра чачи выпил! Практически умер человек!
— А если завтра война? — строго спрашивала я министра.
— Какой еще война тебе приспичило? С кем? — С грузинами! Ведь грузины же агрессивный народ? Министр на секунду тяжело засопел — задумался. — Грузины такой агрессивный народ, я их осла маму, какой они народ!
— Вот! Они же могут начать войну! — Кто? Грузины? Грузины обделаются нам войну делать!— А вот в Москве так не думают! В Москве думают, что грузины вас порвут, как Ашотик надувной матрас!
— Это кто именно так думает? Как его зовут, где он живет, кто его отец?
— Евгений Ревенко так думает, — рявкнула я, не без сладкого чувства мести. — Он прямо сегодня готовит специальный репортаж о том, что грузины вас порвут, потому что у вас нет армии! Хотя «Коммерсант» написал, что у вас тут проходят учения. Но по вашему настроению я вижу, что лучшая газета страны наврала.
— Ах ты осла матери твоего этого коммерсанта! Как этого коммерсанта зовут? Ревенко? У его отца совесть есть? Конченый он человек, если он так думает! Проклинаемый он человек! Ты ему скажи, что он сволочь последний! Скажи, что у нас лучший армий на Кавказе! И за Кавказом! У нас даже БТРы есть! Сестричка, а что нужно сделать, чтобы такой репортаж не получился?
Надо ли говорить, что уже через час мы снимали учения абхазской армии.
Небольшой коровник имел наглость именоваться артиллерийским батальоном и был единственной в стране военной частью. Военных в ней насчитывалось ровно тридцать два. Если никто не на свадьбе. И сейчас эти тридцать два военнослужащих в форме разных лет и разных стран, некоторые просто в спортивных костюмах, выпучив большие абхазские голубые глаза, в недоумении смотрели на своего министра, пытаясь понять, что это с ним.
— В шеренгу, я сказал! В шеренгу! — лютовал министр.
Военные топтались вокруг лужи. Наконец один седовласый боец подошел к министру, взял его за рукав и сказал:
— Асланчик, ты че бесишься? Люди откуда знают, что такое шеренга-меренга! Ты объяснил бы людям.
И крикнул в толпу: — Русик, Сосик, Асик, а ну встаньте рядом, как на фотографию. Бесика позовите, где он в туалете застрял? Бесик, руки в карманы не суй, сигарету выплюнь! Ай, красавчики!
И опять министру: — Ну вот, Асланчик, тебе шеренга. Че было орать? Картинка получалась удручающая. — Ты говорил, у вас есть БТРы? — спросила я. — Я что, обманывать буду?! — возмутился министр. — Так а где они? — А зачем тебе? Что за манера — БТРы фотографировать! Может, они секретные? Моих бойцов сфотографировала? Хватит тебе! Такие красавчики!
— Ты понимаешь, мне-то хватит, но Евгений Ревенко...
— Я его осла матери! — сдался министр и потащил меня в сторону махровой мимозы.
Под мимозой ржавел старый раздолбанный танк. — Это ваши БТРы? — изумленно спросила я. — Это наш... БТ-Р! — горделиво ответил министр. — Хотя сейчас я вижу, что это, скорее, танк.
— И что мы будем с этим делать? — спросил Андрюха, оторвав глаз от видоискателя.
— Заводить! — ответила я. — Заводи, скотина, танк! — орал министр в ржавое дуло. — Завтра грузины нападут, а вы не можете танк завести. Хорошо, вас не видит знаменитый коммерсант Евгений Ревенко!
Через час полумертвый министр уполз в тень лавровишни глотать минералку. Я поскакала за ним петь ему в уши, чтоб не сбежал. Командовали парадом мои ребята.
Гагр десятый раз выгонял танк за ворота, Андрюха десятый раз возвращал его обратно. Ему было надо, чтоб танк проехал прямо по луже и грязь брызнула в камеру под определенным, самым живописным углом.
Несколько женщин в черных платках и черных юбках подняли головы над грядками.
— Мрамза, там опять война, что ли? — крикнула одна другой.
— Наверно, — крикнула в ответ вторая, вытирая руки от черной грязи. — А ты лаврушку делаешь в аджику или только петрушку?
— С ума ты сошла, какую лаврушку?! Чему тебя мать учила?
— Как будто ты не знаешь, что у меня мать — грузинка. Чему она могла научить? — ответила Мрамза, и обе женщины снова нагнулись над красным реганом.
Весь Сухум мгновенно узнал, что началась война. Никто не удивился, а некоторые даже обрадовались.
Старшеклассницы вынесли на руках грудных сыновей, чтобы будущие герои привыкали к виду крови. Мужчины похватали лопаты — откапывать ружья в сырых огородах. Справа и слева слышалось:
— Амха! Копай левее от кинзы! Я там гранатомет в прошлый раз зарыл!
Коровы орали как свиньи, петухи трубили походные марши. Младшие школьницы выли о том, что останутся девками. Правда, не было видно нигде агрессивных грузин — что несколько странно, но непринципиально.
Сняв красивые брызги, мы примчались на местную телестудию перегонять материал в Москву.
— Ой, где такая красота? — спросила Москва. — В Абхазии. — И какая у вас там в Сочах погода? — Мы не в Сочи, мы в Сухуме. Это разные города. И даже разные страны.
— Поняаааатно. У них там война, что ли, началась? — Она у них и не заканчивалась. — Поняааааатно. Ой, а это что мимоза? Мимоза на дереве растет? Ой, а я всегда думала, что она как розы... Подожди, с тобой Ревенко хочет поговорить.
Ревенко был снова бодр, как будто только что отдохнул в одном из целебных сухумских пансионатов.
— Ух ты, какой прикольный репортажик получился! И армия такая мощная у абхазов — кто бы мог подумать. Жаль только, в эфир не пойдет.
— Как не пойдет, Женя? — заорала я на том конце провода. — У твоего отца совесть есть, проклинаемый ты человек?
— Ну, понимаешь, Ритуля, мы думали, что ТАМ будет три совещания, а ТАМ было четыре. Вот твой сюжет и не влезает в программу.
— Послушайте, — говорю, — Евгений. Я не знаю, какая у абхазов армия, но партизаны у них отменные. И эти партизаны очень не любят людей, которые не ставят в эфир сюжеты про учения абхазской армии. И тебе придется иметь от них кровную месть всю твою оставшуюся жизнь. И тебе, и твоим дочерям, и дочерям твоих дочерей!
В общем, сюжет в эфир пошел. Мы с Асланом Сосланычем напились на радостях чачи у него во дворе. Московский военкор где-то добыл козленка и сам пожарил его на вертеле — научился в одной из своих живописных командировок.
Министр все прокручивал запись моего репортажа, тыкал в нее пальцем и умилялся:
— Ты посмотри, какая техника, какие бойцы! Я тебе должен сказать — я никогда не думал, что у нас такая армия!
Расчувствовавшись, он стукнул военкора кулаком по колену.
— Молодец эта Марианна, скажи, нет, да? — Она Маргарита, — ответил военкор и посмотрел на меня своим знаменитым прищуром.
Через три часа закрывалась на ночь граница, а у него был ночной самолет.
— Ну что, до встречи в Останкино, — сказал военкор и полез в карман своей синей ветровки.
— Это — тебе. Он протянул мне заляпанную маринадом кассету с той самой американской песней, которую я никак не могла найти.
— На память, — он усмехнулся одной половиной губ. В Москву меня перевели в тот же год, в октябре. Когда там срывалась уже первыми заморозками зима, а в Сухуме еще не заканчивалось благодушное лето.
Военкор встречал меня в аэропорту. На лимузине. На белом лимузине. Заляпанном серыми брызгами скорой зимы.
— Ну, что, вот тебе и Москва! Может, она еще не запомнила, как тебя зовут, но встречает тебя уже как звезду, — сказал военкор.
В лимузине он откупорил бутылку шампанского. С его насмешливых скул уже успел сойти недавний загар.
Мы ехали по замызганному Подмосковью, и я замечала унылый пейзаж, который теперь должен стать моим ежедневным прибоем — плешивый лесок с кривыми березками, скрипучая мокрая трасса, билборды, полные фотогенично счастливых людей с венировыми улыбками.
— Так на чем мы с тобой остановились на пляже? — спросил военкор, прищурив глаза и наклонившись ко мне.Но в отсутствие запаха подгнивающих водорослей на прибрежных камнях острый запах его одеколона мне вдруг показался каким-то пресным.