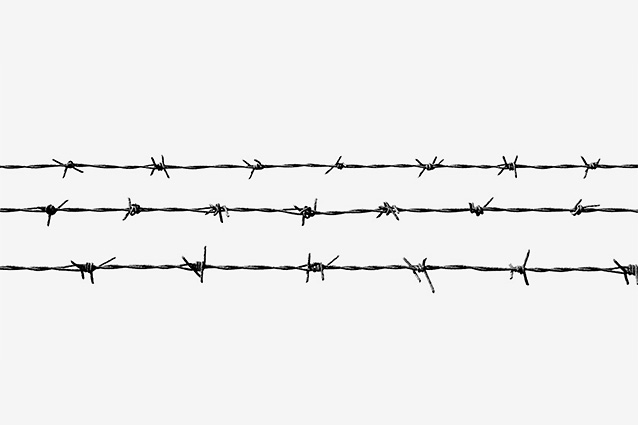Алексей Малобродский: Записки из СИЗО. Часть первая: Мэр
Острог, узилище, темница, застенок, кича, каземат, централ, кутузка... какое еще слово в русском языке имеет столько выразительных синонимов? Язык точно отражает место явления в сознании и повседневности.
Так уж повелось в России, что тюрьма — весьма распространенный и привычный пункт в биографии множества людей. С тюрьмой многие взрослеют, познают себя и мир, совершают открытия, прозревают и разочаровываются. Тюрьма не только важный этап личностного становления, но факт общественного значения, определяющий сознание, привычки, культуру, бытовые и моральные установки больших групп людей по обе стороны колючей проволоки. Факт, сформировавший и продолжающий формировать не одно поколение и общество в целом. Прежде я бы оговорился: в той степени, в которой возможно у нас говорить о наличии общества. Но теперь оговариваться не стану — моя личная тюрьма парадоксальным образом доказала мне, что гражданское общество в России не только реально существует, но имеет очевидные, пусть и отдаленные, перспективы. Количество наших сограждан, чей художественный, литературный, научный, общественный путь так или иначе определяла тюрьма, огромно. Тех, кто менее известен, не публичен, но навсегда усвоил уроки тюрьмы и так или иначе преподал эти уроки своим детям и внукам, — миллионы. О тюрьме и о человеке в тюрьме написано много — от Достоевского до Олега Навального и Владимира Переверзина (Шаламов, Солженицын, Домбровский, Гинзбург, Марченко, Буковский). В то же время я не знаю ни одного фундаментального исследования феномена тюрьмы в России и его влияния на массовое сознание и исторический путь страны.
Авторов известных мне исследований интересуют обычно крайние, экстремальные ситуации и исключительные сидельцы — либо диссиденты, преследуемые, несправедливо осужденные, либо рецидивисты и совершившие тяжкие и явные преступления злодеи, либо политики, чиновники, бизнесмены и прочий публичный люд. Между тем мне кажется интересным и важным осознать и описать тот факт, что заключение и несвобода в нашем обществе — это некая обыденность, привычка для тех, кто прямо или опосредованно с этим столкнулся. Мы издревле от тюрьмы и сумы не зарекаемся, терпим, как нам бог велел, знаем, что в тюрьму двери широки, а обратно узки и что у тюремных у дверей много плачет матерей, наблюдаем порой, что кому тюрьма, кому дом родной — и тому подобное. А те, кого чаша сия обошла, малодушно обманываются тем, будто это вовсе не их история и находятся в плену расхожих заговоров типа «следователь разберется» и «нет дыма без огня».
Разумеется, сам я ни в малейшей степени не претендую не только на осмысление, но даже на то, что мои впечатления могут добавить что-то существенно новое в общую картину, сложенную из многих описаний, воспоминаний, суждений. Это дело историков, социологов, социальных психологов, писателей. Однако любой непосредственный опыт добавляет к знанию особенное качество, как бы меняет его объем, остроту... И этот непосредственный опыт почему-то непременно требует артикуляции. Я стесняюсь банальностей в собственном исполнении, мне необходимо чем-то оправдать мою потребность говорить и писать слова. Таким оправданием для меня стали люди, встреченные в тюрьме и около тюрьмы — соседи по камерам и автозакам, охранники и начальники, врачи, судебные приставы, общественники, раввины и православные священники, а также следователи, оперативники, понятые, прокуроры, судьи. Поскольку ни у кого из них я не спрашивал разрешения рассказывать их истории, постольку я, как правило, буду называть их вымышленными именами. И лишь в тех случаях, когда я абсолютно убежден, что они не бегут публичности, а, наоборот, ищут ее, имена будут подлинными.
Мэр
Я вошел в камеру, в которой проведу свой первый месяц в СИЗО, известном как «кремлевский централ». Человек, сидевший на кровати с «Новой газетой» в руках, взглянул коротко: «Это вы? — показал газетную статью и мою фотографию за судебной решеткой. — Мы следим с интересом, проходите, располагайтесь, будем знакомиться».
Игорь Сергеевич Пушкарев, сорока с небольшим лет, действовавший на тот момент мэр Владивостока (не назначенный, а избранный городом) к июню 2017 года находился в заключении уже год. Сейчас, еще через полтора года, Тверской суд рассматривает дело по существу. Для всех непредвзятых наблюдателей очевидна бездоказательность обвинения в злоупотреблении служебным положением и коммерческом подкупе. Будучи очищенным от стереотипных страшилок, которыми следователи и прокуроры любят украшать свои умозаключения, злоупотребление сводится к тому, что принадлежащие семье мэра предприятия авансировали городу материалы на миллионы рублей и, терпеливо подождав оплаты, простили задолженность. А коммерческий подкуп мэра якобы совершил его родной брат через посредничество его же жены. Игорь не признаёт за собой вины и бескомпромиссно борется. Он идеально дисциплинирован, чистоплотен и бесконечно деятелен. Его тюремный досуг, помимо всего, что составляет содержание уголовного дела, состоит из ежедневной обширной переписки, чтения полдюжины выписанных им газет и множества разнообразных книг; дважды в день серьезные спортивные занятия; совершенствует свои знания в английском и корейском языках. При этом он доброжелателен, улыбчив и тактичен в общении. С ним очень удобно, комфортно. Он, состоятельный человек, свои материальные возможности сочетает с хватким хозяйственным навыком практичного деревенского парня и явным организационным дарованием. Следствие последнего — идеальный порядок и рационально устроенный быт в камере. О нем за глаза всегда уважительно судачат на сборках и в автозаках и, уж коль довелось оказаться в тюрьме, хотелось бы иметь такого соседа.
Дома его ждут жена и трое сыновей, родители. Один из двух младших братьев проходит по этому же делу и находится под домашним арестом.
Пушкарев родился и вырос в Забайкальской деревне, в доме с печным отоплением и водой из колодца. С золотой медалью окончил школу. Затем — университет, успешный бизнес, удачная политическая и чиновничья карьера. Говорит, что был убежденным приверженцем Путина, точнее того образа и тех декларируемых целей, которые внушил себе и приписывал организатору всех наших будущих побед. Попав во власть, гордился своими ответственными постами и с энтузиазмом стремился оправдывать доверие. Разумеется, у него были и остаются недоброжелатели, соперники в борьбе за влияние в городе и регионе, откровенные враги. Противостояние им он воспринимал не как дележ пирога, а как борьбу принципов, настаивал на своем представлении о благе для города и строил ведущие к этому благу пути. Сфабрикованное дело, незаконное преследование и собственно тюрьма естественно корректируют картину мира, прочищают сознание.
Сейчас Игорь говорит, что больше всего претензий у него к самому себе: как он мог быть таким прекраснодушным болваном? Его история отсылает к большевикам, репрессированным в тридцатые годы двадцатого века. Это история о том, как у простодушного, но искреннего «комсомольца», «бойца продразверстки», попавшего в молох пожирающего своих детей режима, с запоздалым изумлением раскрываются глаза. И перед этим прочищенным взглядом встает картина оскорбительно примитивного устройства реальности. В этой реальности дорвавшееся до кормящей власти агрессивно-бездарное ничтожество не потерпит и не простит другим роскоши иметь принципы, жить по нравственному закону. Ничтожество справедливо воспринимает это как угрозу своему существованию. Кроме мэра в камере еще двое — блогер и молодой хакер. О них в другой раз. А пока меня с доброжелательной иронией допрашивают все трое. Вернее, от меня не требуется ответов, мне в точности озвучивают то, что я думаю о себе и своей ситуации: происходит нелепая ошибка, которая непременно разрешится на первых же допросах и максимум через месяц добросовестный и непредвзятый суд отменит решение об избрании мне меры пресечения в виде заключения под стражу. «Мы знаем, что вы правы и верим каждому слову — говорят мне, — а теперь мы расскажем, как будет на самом деле». И почти безошибочно описали всё, что произошло со мной в последующие одиннадцать месяцев.
Продолжение следует.