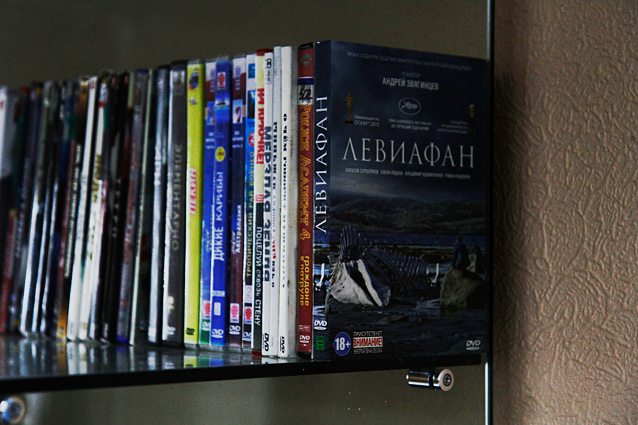Остров Россия. Родина нефти и суп из оленьих кишок
«Собаку руками не трогать»
Лететь на родину нефти — ночь. И восемь часовых поясов.
В полночь встает солнце, и сонный попутчик бормочет:
— Ну чё Москва… Ничё Москва… Айфоны, веганы, фиганы… гомосятина!
Люди отдохнули, люди летят работать.
В тихом парке в семи тысячах километров от Кремля под песни Кобзона ходит по кругу карликовый поезд: детская железная дорога. Настоящие дороги — десять веток — распилили и распродали в прошлом веке.
Последняя ветка ведет из Южно-Сахалинска — в Ноглики, из аэропорта — к скважине, от бамбука — к березкам. Семьсот километров на север, а за окном — сплошь сараи на фоне сопок. Будто все тут погибло не двадцать, а двести лет назад.
Из Ногликов до нефти — два часа на джипе. Цветные мхи до горизонта. Асфальт, грунтовка, вновь асфальт, и из тумана проступает газовый факел, ровная колючая проволока и табличка: «Собаку руками не трогать».
«У нас тут как зона. В хорошем смысле слова!»
С этой земли всегда драли три шкуры. Что-то всем было нужно от Сахалина. Нивхам — рыба, орокам — дичь, Российской империи — уголь, Японской — дерево. Треть века назад под Охотским морем нашли другое море — нефтяное, которого хватит еще на треть века. И за нефтью пришла корпорация с годовой прибылью, как бюджет всей Прибалтики: «Эксон Мобил».
14 лет назад на берегу залива Чайво вырос «Ястреб», 72 метра крашенной синим стали. «Ястреб» поставил тридцать мировых рекордов и пробурил девять из десяти самых длинных в мире скважин: бурить до шельфовой нефти с берега — 13 километров.
Вслед за «Ястребом» с Аляски пригнали буровую платформу «Орлан» и поставили в заливе Чайво на якорь. В хорошую погоду — несколько дней в году — можно разглядеть вертолетную площадку.
Между буровыми 11 километров, но на «Орлане» плюс два и пар изо рта — все же открытое море, — а на «Ястребе» плюс пятнадцать и солнце. Кусок тундры, из которого он торчит, зовется велл сайт — буровая площадка. На велл сайте выстроились рядами кристмас три — скважины фонтанного типа. Перед ними ред сквэр — пустырь. На пустыре люди в оранжевых каверолах — в одежде то есть.
Консорциум «Сахалин-1» качает нефть на паях с русскими, японцами и индийцами, но за главного — «Эксон нефтегаз лимитед», и язык английский, и порядки эксоновские.
Видишь ремень — пристегнись. Видишь вентиль — руками не трогай. Видишь поручень — держись. Одной рукой держись! Вторая — наготове. Идти — по дорожке. Бежать — нельзя. Желтая лента — опасность. Красная лента — хода нет. Видишь зеленый флаг — выходи. Красный — не высовывайся. Видишь огонь… порядок. Это сгорает лишний газ. Вот если погас живописный факел, тогда можно медленно, держась одной рукой за поручень, не сворачивая с дорожки, идти в ближайшее укрытие.
— У нас тут как зона, — говорит оператор Алексей, человек с немигающим взглядом. — В хорошем смысле слова.
Далекий «Орлан» и ближний «Ястреб» гонят нефть на завод по ее очистке «Чайво». В сердце «Чайво» за гигантским пультом сидит Алексей, и перед ним мелькают схемы на семнадцати экранах.
— Раньше мне это снилось. Теперь нет. Раньше волновался. Теперь нет. Тут защита от дурака. Остановить можно, сломать нельзя.
На девятом экране меняется цифра, мигает красный: в одной из тысяч труб растет давление. Алексей читает свои закорючки, как скрипач ноты, жмет на кнопку — и где-то движется нужный вентиль.
— Я ж не просто тут сижу, я физически знаю, где каждый клапан, каждая задвижка. Много лет так уже работаю, месяц через месяц. Жена в Южном. Привыкла уже. Я тоже. Я тут в качалку хожу. В бильярд.
Он поразительно сосредоточен и неподвижен. Шевелится только кисть, сжимающая эспандер.
— У меня тут одних графиков сотня! И алармы постоянно. Забыл, как по-русски.
Он вообще с трудом вспоминает слова. Некогда разговаривать.
Скважина идет вертикально вниз, потом наискосок, а дальше — километры по горизонтали. Нефть, газ, песок и воду качают с шельфа одним потоком. На «Чайво» все это разделяют и гонят по двухсоткилометровой трубе на запад, на материк: газом греют Хабаровский край, а нефть разливают по танкерам. С нефтеналивного завода в хабаровской деревушке Де-Кастри она отправится на юг, питать японский и корейский автопром.
Молчаливый Алексей может остановить этот поток одним движением пальца. Молчаливому Алексею привозят горячий обед в термосе. На стене картонный олень: красиво.
«Молодые прибиваются к оленям: города боятся»
Коллективизировали ороков бескровно: взяли оленей слепого деда Оопуна — и стало колхозное стадо. Женщины-ороки продолжили растить телят, мужчины — гнать стадо по привычному пути: зимой — на запад, где снега меньше, летом — на север, где меньше лютует комар.
Советская власть сказала орокам, чтоб больше не кочевали и осели в поселке Вал. Советская власть научила полтысячи ороков читать и писать, и шестеро сразу же оказались японскими шпионами. Но остальным жилось неплохо, олени расплодились, и к концу войны в колхозе «Вал» их стало пять тысяч.
Здешние ороки зовут себя уйльта. В уйльтинском языке двадцать два самоназвания, пятнадцать гласных и десять падежей. Сейчас, когда девяностолетний профессор Дзиро Икегами составил, наконец, первый уйльтинский букварь, от всего народа осталось человек триста, а в школе на Валу один выпускник — русский. Но предпоследний оленевод Тимоха Макаров не видит причин жаловаться на жизнь.
— У нас тут всё есть, на ***! Лиса есть. Соболь есть. Медведи ходят по заливу. Но раньше было, конечно, лучше, на ***. Было веселей. Я в пятнадцать лет в совхоз пришел, надоело болтаться, на ***. Работать, на ***, хочу. Ну и работал, на ***. Коров, на ***, пас. Оленей, на ***. В поселок на нартах приезжали, на ***. Верхом, на ***. А сейчас ни оленей, ни ***. Медведь в поселок пришел, кучу навалил. Собак, на ***, нет.
Тимохина сводная сестра Галина Борисовна — матриарх уйльта. Она тут самая организованная и красноречивая, вот и ведет переговоры с властью и корпорациями. Были б ороки цыгане, она была бы их барон.
— Сами знаете, что стало в перестройку. Ни зарплаты, ничего. Вот мы и ушли с совхоза сами с оленями. Оленей-то мы не бросим своих ездовых. Ну, отошли. Стали кочевать. А оленей все меньше, кровь-то не меняется. Сейчас их голов сто двадцать. А кто их считает, они же бродят. У нас один только настоящий оленевод остался. Ну и молодые прибиваются к оленям, потому что работать негде и города боятся.
Галина Борисовна поправляет очки и оглядывает мир: изумрудную тундру, жемчужное море. На горизонте маячит буровая.
— Оленевод такой человек — просить не пойдет никогда. Одна я попрошайничаю. Чтобы мы выжили. По областной программе выделят средства на продукты, вот и перебиваемся. Все ушли, все старожилы. Одна я осталась тут на хозяйстве. Где продукты взять, где что. В советское время-то хорошо было. Зарплата была. Сейчас ничего не получаем. Но и оленей не забиваем, сохраняем поголовье. Я на пенсии, сын на буровой работает. А другой умер.
Галина Борисовна кашляет и переходит в режим советского радио.
— В прошлом году закупили якутских оленей, приучаем с ними работать молодых. Посмотрим, как пройдет отёл. От этого все зависит. Будем ждать новых свершений!
«Моя рутина — выезжать на море»
Мертвый поселок Чайво — на широте Воронежа, только там степь, а тут ягель. Постоянное население — ноль человек. Непостоянное — четыреста вахтовых рабочих. Белая каска — опытный. Оранжевая — начинающий. Зеленая — гость. На затылке каждой — корпоративная мантра: «Никто не должен пострадать».
В столовой жилого корпуса завода «Чайво» — машина с мороженым, две плазменные панели, четыре горячих блюда на выбор и восемь салатов, самый популярный — винегрет. Одни едят его с горчицей, другие с соевым соусом, третьи просто так — смотря кто где вырос. Директор «Чайво» Фрэнк Гиберту — из Луизианы, поэтому не ест винегрет вовсе, а смотрит бейсбол. Работяги за соседним столиком — местные, из Охи, смотрят «Россию». На экране Красная площадь, почти как на «Ястребе». На ней палатки фестиваля «Спасская башня», почти как у оленеводов.
Смена — 12 часов. Вахта — 28 дней без выходных. Кто-то летает сюда из Москвы. Кто-то — вовсе из Калининграда. Чтоб не заскучали, вахтовиков бросают с Чайво на Одопту, а оттуда на Аркутун-Даги — по всем месторождениям шельфа.
— Рутина есть в любой работе. Но чья-то рутина — постоянно сидеть за компьютером, а моя — ежедневно обходить производство и выезжать на море.
Полевой эколог Антон Белов невыносимо идеален. У него отличная работа, он квартиру купил за восемь миллионов, и при этом абсолютно счастлив, что полжизни проводит не в ней, а в маленькой комнате где-то в тундре — получше, впрочем, чем во многих отелях.
— На пятидневке ты за два выходных ничего не успеешь. А я, когда приезжаю домой, полностью отдаю себя семье. Можно и разгрузить супругу в плане заботы о ребенке, и переделать все домашние дела, и ремонт затеять. Отпуск у нас 60 дней, в прошлом году я отдыхал в Египте, в этом году заскочу в Тунис. Часто бываю в Японии, у нас туда корпоративный чартер. Но если куда еду в жару отдыхать, так только из-за жены и ребенка. А для меня оптимально — на Сахалине. Я половину острова пешком обошел и знаю, что осталась уйма мест, где стоит побывать.
Антон анализирует качество воздуха, питьевой и сточной воды и ведет переговоры с Галиной Борисовной, если оленеводам что-то надо. И много качается, как все вахтовики.
— Из месяца вахты я позволяю себе четыре выходных от спортзала! В соседнем кэмпе есть баскетбольное поле, так у нас раньше было пять баскетбольных команд. Интернациональных! А однажды за мной олень по тундре погнался… Не, у нас точно условия самые лучшие. Хотя я не могу ни с чем сравнивать. Как устроился в компанию в 2005 году, так и работаю. Я нигде в другой компании не был. Я патриот компании. Много лет жизни ей отдал, компания — моя семья, она обо мне заботится, и я стараюсь хорошо работать на благо компании, я всем доволен, мне все нравится. Я точно знаю, что компания о нас заботится!.. Может, я просто боюсь оказаться где-то еще.
Работников, как Антон — не таких безупречных, конечно — на месторождении Чайво четыреста человек. Триста следят за машинами, сто — следят за людьми, которые следят за машинами: варят для них, убирают и охраняют.
Работников, как в советском кино — белозубых и умывающихся нефтью — на Сахалине нет.
На «Сахалине-1» добывают 170 тысяч баррелей нефти в сутки. А на юге острова примерно так же качает газ «Сахалин-2», только за главного там не «Эксон», а «Газпром» на паях с голландцами и японцами.
Для сахалинца попасть на нефть или на газ — большое счастье. Цены на Сахалине повсюду московские, а средняя зарплата — сорок тысяч. Но за нефтегазовую вахту можно получить двести.
«Я сырую нерпу ем»
— Кишки вытаскивай! А диафрагма пусть варится!
У ороков нет цветовой дифференциации касок, правил поведения в столовой и ершика, чтобы чистить ботинки на входе в жилой корпус. Галина Борисовна управляет без системы, на личном авторитете: мечется по кухне, раздает подзатыльники. Сегодня большой день: курэй — праздник оленеводов, на нем кулинарный конкурс, и нужно, чтобы команда из поселка Вал на нем победила.
Когда-то изысканная панна-котта была сладостью для бедных и варилась на рыбьих костях. Орочью панна-котту — мооз — и сейчас так варят. Чтобы рыбье желе с брусникой таяло на языке, важно как следует истолочь рыбью кожу в ступке и добыть из нее естественный желатин. С китайскими блендерами это стало проще.
Другое лакомство — вызгхаз, молоки лосося с морошкой. Джем, пюре и четыре вида варенья делают из морошки, главной ягоды этих мест. Молодухи-уйльта шепотом рассказывают, что, если Галина Борисовна видит морошку, с нее сразу слетает вся солидность, носится за ягодой, как молоденькая.
Соперники оленеводов из Вала — южане, рыбаки из Поронайска.
— Мама у меня рано умерла. Меня никто готовить не учил, море само научило. Вот у меня трубач, вот лосось, вот горбуша, вот отварная кетовая икра с черемшой. Что продам, то и наше. Дочки у меня по дереву и по кости вырезают, вышивают.
Реют над тундрой эксоновские флаги — нефтяники купили оленеводам продуктов в обмен на строчку про социально ответственный бизнес.
Ходит по рядам жюри, пробует рыбу и ягоды. Смотрит жюри, как мечут тынзян на хорей (аркан на шест), прыгают через нарты (сани), стреляют из лука.
Уйльта, нивхи и эвенки нечасто встречаются вместе. Их на всем острове осталось три тысячи человек, их лингва франка — русский, а идентичность — одна на всех: камэнээс — коренные малочисленные народы севера. Это официальное название.
— А вас круговые танцы какие? А бисером как шьете? — спрашивает один камэнээс у другого.
Другой уже не держится на ногах, но требует, чтоб его записали побороться на поясах в категории до 60 килограммов.
— А ты язык наш понимаешь?
— Нет.
— А я лет двадцать назад понимала. А сейчас почти нет. Могу сказать: дай нож, дай ложку, дай сахар. И ругательные слова.
— А ты сырую печень не боишься есть?
— Я сырую нерпу ем, и что?!
Охотник Семен Надеин, эвенк по матери, по отцу нигидалец, в тридцать лет отморозил ноги. Когда он понял, что больше не попадет в тайгу, он попросил у врача свой рентгеновский снимок и где-то добыл нож.
Наутро на столике у кровати лежал полупрозрачный (черное — полости, белое — кости) олень с крыльями. Безногий Надеин вскоре стал знаменитым художником-аппликатором.
Это правдивая история. Но таких больше не рассказывают. Все нынешние истории — скучные, про выживание.
— Вот у меня соболь! — портниха-уйльта Анна Дорофеева тычет пальцем шкуре в глаз. — Шапка из него живет столько же, сколько он сам: двадцать лет. Вот у меня собака енотовидная. Вот лиса. В палатке у меня выдра, росомаха. Я из них всё могу. Варежки, шапки, сумки. Вот куртка: верх олений, а подложка собачья. Как с туши снимаешь сырец, две недели у шкуры пролежка. Потом стираем, сушим, шьем. Всё женщины. Мужчина у нас должен только добывать. А разделка, готовка, дрова — всё женщина. Сейчас мужчины не особо добывают. А кто остался, те старые. Они уже грехи замаливают. Чем старше охотник, тем больше ему жалко зверя…
— У нас в Луизиане не увидишь ничего подобного.
Директор Гиберту ходит по пушным и рыбным рядам и благодушно улыбается.
— Я в интернете посмотрела — такая сумка меховая стоит сто тысяч, — говорит портниха. — А у нас хорошо если за пять отдам. Это все равно дорого. Проще сходить на китайский рынок... Уехать? Уехать?! Куда?
«Вы в больницу?»
Далеко в Охотском море невидимые серые киты нагуливают жир на донных пастбищах. Лето у них сахалинское, зима японская.
Над заливом Чайво мечется тысяча чаек.
В проливе Клейе из воды поднимается черная голова с умными блестящими глазами: нерпа ворует камбалу, разоряет орочьи сети.
На чахлой лиственнице — воронья пара. Сахалинские вороны пробивают клювом банку с тушенкой и умеют пить водку: приучились на кладбищах.
Над лесом звенят комары.
— Тут хорошо, — говорит водитель Серега, пока мы едем прочь от нефти и моря. — Тут зимы мягкие! А у нас в Хабаровске, если куда наутро собрался, ночью просыпайся, машину прогревай. Развлечений тут нет, конечно, но можно в тот же Хабаровск скататься. А захотели, денег скопили — и в теплые страны! В Анапу недельки на две! А лучше в Александровск-Сахалинский, к бабушке. Мы там хорошо отдохнули. Моей не хватило — собралась, улетела в Анапу. И че, говорю? Да лучше б, говорит, остались у бабушки.
Буровую покинуть можно, остров — сложно. Рассказывают байку про растерявшегося нефтяника, который работал на «Сахалине-1», но не на буровой, а в головном офисе. Делал карьеру, ждал канадского вида на жительство, зарабатывал отлично и внезапно бросил все и уехал на Кубу, быть собой и рубить сахарный тростник. Но и его побег не состоялся до конца: вернулся на Сахалин, торгует редкими сортами чая в Южном.
Ноглики, раздолбанный вокзал. Жена провожает мужа за семьсот километров и скрывает чувства: вместо объятий — сочный пендель.
— Вы в больницу? В аэропорт?
Это проводница спрашивает каждого. Дорога опасна: летом с сопок сходят сели, зимой кружат метели. Застрянешь на полпути — и всё.
— Вы в больницу?
И женщина с серым лицом молча кивает, машинально поправляя уже несуществующие, съеденные химиотерапией волосы.
— Вы в больницу?
— Нет.
— В аэропорт?
— Пока еще нет.
— А что ж вам тогда нужно? Там, на юге?
Поезд плетется сквозь ночь, на полустанке его штурмуют трое смертельно пьяных: врут — или нет — что попали в аварию, что грузовик всмятку.
— Не пущу! Женщины будут дышать вашими испарениями!
— Да мы в тамбуре ляжем! У стенки постоим! Нас жены ждут!
— Протрезвейте и на завтрашнем езжайте.
— Да тут спать негде!
— Трезвейте!
— Да тут даже мента нет, чтобы ему сдаться!
Поезд движется дальше, и трое кричат ему вслед:
— Тут ничего-о-о-о!
Продолжение следует